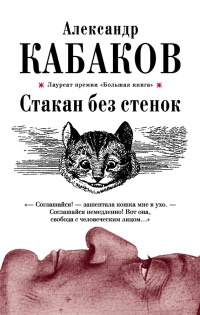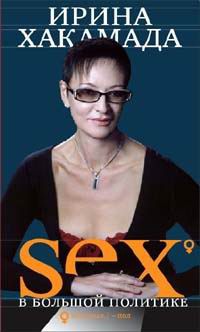Книга Абраша - Александр Яблонский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ходить на допросы дядя Кеша уже не мог – он ползал на четвереньках, оставляя за собой тонкий прерывистый кровавый след. Но подписывать обвинения категорически отказывался, и было видно, что голод, стоячий карцер, бессонница его не сломают – он стал привыкать к своему животному голодному существованию, передвижению на четвереньках, к вони собственных застарелых испражнений, кровавому следу. Он стал умирать. И это состояние постепенного умирания его не беспокоило, не терзало, не угнетало, как не терзает, не угнетает процесс умирания тростник или подпиленную под корень яблоню. Тогда умный Красильников использовал последнее средство. Он прочитал признательные показания Пильняка, сделанные им 11 декабря 1937 года, то есть тогда, когда Иннокентий Валерианович не подозревал о существовании Федорчука, Красильникова, Сухановки, а Лубянку, хотя и обходил стороной, но делал это как-то по всеобщей привычке: от греха подальше, – не вкладывая в этот привычный страх конкретного содержания. Тогда, в середине декабря 37-го года он – известный критик и литературовед готовился к встрече Нового года, это было особенно хорошее время, ибо вышла его книга – сборник статей, посвященных русским поэтам конца ХVIII века. Гонорар был невелик, но он давал возможность хорошо, вкусно, обильно обедать и, не шикуя, угощать друзей грузинскими винами и армянским коньяком. Звезда карлика – железного несгибаемого наркома с его ежовыми рукавицами сияла высоко и предположить, что через полтора года он окажется по соседству в Сухановке, избиваемый и пытаемый его коллегами с особым остервенением, предположить такое было невозможно, да Валерьяныч тогда об этом и не думал. Он наслаждался жизнью. А Борис Пильняк давал показания.
«В силу моих, тогда особенно злобных отношений к политике партии и руководству, я бойкотировал Союз Советских писателей… Мы – кружок “30-е годы” – утверждали, что литература угнетена (советской властью), что писатели привязаны на корню и имеют право писать “отсюда досюда”… Активными участниками наших контрреволюционных троцкистских собраний были Зарубин, Иван Катаев, А. Платонов, Иннокентий Х. и др., дважды собрания посещал Пастернак, близкий нам по духу…» — Иннокентий Валерианович никогда не симпатизировал Пильняку, который казался ему каким-то двуликим, темным, сомнительным человеком и очень неровным писателем, хотя «Повесть погашенной луны» и «Красное дерево», а также рассказы, особенно «Иван да Марья», были ему интересны, а «Голый год» можно было отнести к советской классике. В спаявшейся усилиями цензурной критики паре Пильняк – Замятин, Валерьяныч бесспорное предпочтение отдавал Евгению Ивановичу, с которым был тесно дружен и часто общался до 31-го года. Впрочем, стоя на четвереньках, пронизанный леденящим холодом цементного пола, он не думал о стилистическом блеске автора великого романа «Мы», не сравнивал участников «Перевала» или других групп, он пытался понять смысл слов, которые медленно и чеканно произносил Красильников, покачиваясь на носках в своих ослепительно блестящих яловых сапогах. Когда через долгие мгновения до него дошло то, в чем признался Пильняк, когда наконец расслышал свои имя и фамилию, указанные Борисом Андреевичем в числе участников троцкистского сборища, на котором он никогда не был, вернее, был на совместной пьянке по случаю Нового года, где слова трезвого вообще, тем более, о политике, не звучало, когда он всё это переварил, вот тогда Иннокентий Валерианович хрипло выдавил, «Дайте бумагу. Я подпишу». «Ну, наконец-то». Красильников что-то сказал младшему сержанту специальной службы, тот быстро вышел, Красильников пододвинул стул, положил на него папку, на папку листы, дал ручку, и Иннокентий Валерианович, стоя на коленях, покачиваясь, неслушающей рукой с трудом вывел свою корявую подпись. Вошел сержантик, что-то передал Красильникову, и тот наклонился – уши его пылали, – поставил на пол дымящуюся тарелку с наваристыми мясными щами: «Заслужил… сволочь. Жри». – И плюнул. Харкотина была жирная большая желтая. И Иннокентий Валерианович, стоя на четвереньках, по собачьи прогнувшись, захлебываясь слюной, припал к тарелке, отгоняя пальцами к другому краю харкотину, и стал жадно хлебать обжигающую, ошеломляюще ароматную массу. Через несколько секунд резкая боль пронзила желудок, его вырвало, и он потерял сознание.
Вскоре его отправили по этапу, и больше Красильникова он не видел.
… И вот сейчас они стояли друг против друга, выпивая теплую водку: два старых серых человека. Один говорил почти без умолку, другой смотрел с растерянным недоумевающим видом – казалось, что встретились два старых товарища, и один рассказывает другому удивительную, захватывающую, неправдоподобную историю. «Мы все – солдаты, мы выполняли приказ, мы были пешками…». Валерьяныч, наконец очнувшись, спросил: «А харкать в тарелку с супом вам тоже начальство конкретно приказало?». Красильников замолчал, сухо, но гулко хрустнул своими тонкими длинными пальцами, его узкие белые губы сложились в куриную жопку, уши занялись утренней зарей: «Очень уж ты достал меня… до самой печенки…» – он впервые обратился к Иннокентию Валериановичу на «ты». Дядя Кеша повернулся и, не прощаясь, вышел.
… Сергачев не понимал логику поведения ни того, ни другого. На месте этого «дяди Кеши», он не только не подал бы руку своему пытарю, но, возможно, двинул бы по физиономии, плюнул, или, во всяком случае, послал на исконном-посконном русском языке далеко-далеко. Что же касается чекиста Красильникова… Нет, Николай понимал: тогда было такое время, нервы чекиста не железные, он знал письмо товарища Сталина от 10 января 1939 года, в котором говорилось: « ЦК ВКП считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружившихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод ». Всё это так, но плевать в миску с супом?.. И вообще, по его глубокому убеждению, рыцарь его Ордена должен уметь работать головой, а не кулаком, даже если этот «кулак» принимает форму специализированного горячего карцера метр на метр, «сухановской диеты», современной «сыворотки правды» или допотопной дыбы. Надо стремиться к высшему пилотажу: без битья, с хорошим питанием и здоровым сном заключенного так выстроить линию поведения, чтобы «кролик» сам рассказал всю правду и, более того, стал бы твоим осведомителем – не за страх, а за совесть. Вот где нужна работа ума, необходимо терпенье, выдержка, знания. Подноготная правда – кривая правда: когда под ногтями на полсантиметра загнаны ржавые гвозди или когда на твоих глазах «работают» с женой или детьми, тут ты всё скажешь, только, что толку… А вот спровоцировать на откровенность, подвести к точному ответу убийственными аргументами, собрать такие сведения, чтобы у арестованного не было выхода, сломать своей логикой линию защиты – вот это отличает Служителя Сыска от прислуги. Да и великий вождь сказал: «в исключительных случаях». Это, как в медицине: Николай помнил свое детство, врача, который приходил только с одним стетоскопом, долго ощупывал впалую грудь мальчика своими мягкими, теплыми руками, простукивал сквозь ладонь согнутым указательным пальцем спину, затем прикладывал к уху раковину стетоскопа и долго вертел пациента, слушал: «дыши, не дыши…», затем рассматривал горло: «скажи «А-а-а», сухими чуткими пальцами чуть надавливая желёзки. И точно определял диагноз, и лечил – вылечивал. Ныне же навезли в их ведомственную спецполиклинику аппаратуры – на миллион долларов, наверное, из Германии, Франции, Венгрии, а результаты-то мизерные. Вот Иришку уже второй месяц мучают: исследуют, просвечивают, анализы сверхсложные берут, а никак понять не могут, что с ней. Потому что головой разучились работать, как Красильников. Но если уж ты оскоромился, если положился не на свой разум, не на свою волю, а на кулак, холодильную камеру или щипцы, то чего заискивать, зачем ручку жать? Что, прощенья хотел просить? – Так не будет прощенья, кровавый понос и суп с харкотиной не забываются, это естественно. Совесть очистить? Так ее очищают не в рюмочной при случайной встрече. Посмотреть, что стало с доходягой после Лубянки, Сухановки, Колымы? – Бред какой-то! Доходяги никогда уже не оклемаются, даже если они и отъелись.