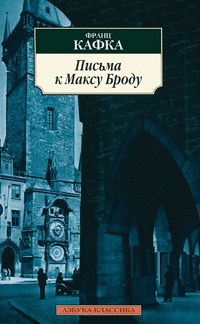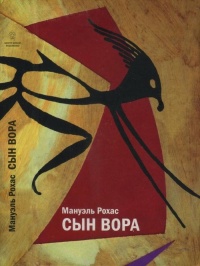Книга Птицы и гнезда. На Быстрянке. Смятение - Янка Брыль
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Мой — березовый, — улыбнулся Алесь. — Бывает еще из мотыльковых крыльцев. Химия. Так что же дальше было, Змитрук?
— Ага. Стою я, братко, а тут вводят какого-то полячка. Тоже, как мы с тобой, «энтляссен», только знак «П» на груди. Удирал, да поймался. Чуть они его там не съели. Я — в угол: думаю, попадет еще и мне. А Безмен его лает по-польски уже, не по-нашему, а потом раз, другой в морду. Хоть ты плачь. А хлопец тот зубы сжал — и ни слова. Только слезы по щекам текут. Во, брат, — поляк! «Видал? — кричит мне Безмен. — Досталось бы и тебе, кабы меня не было!..» Вот где сволочь! За что ж ты его? Птушка и та из чужих краев домой летит, а это ж человек!.. «Кабы меня не было…» Кабы тебе вместе с гитлерами подохнуть, так не было б того, что есть, — ни войны, ни беды. А так — отсидел я с этим Тадеком свои десять дней. Он тоже из деревни, из-под Кельцев. Я ему даже, выходя, полевку свою за эту, помилуй бог, кепочку отдал. Пускай, думаю, будет тебе твоя «еще Польска». Потому как и хлопец ты добрый, и горе у нас одно… Он остался, а я вот обратно к мельнику. Ну, там еще получшает… Эх, и орал же он, горбатый черт. Думал, что меня и ахвостают и отдадут ему опять, а тут — десять дней без гефангена. Сегодня вот уже одиннадцатый… Да, братко, называется — мы с тобой на свободе. Он мне, фашистская морда, милость оказал, дал работу. А что душа у меня по дому, по детям да женке болит, что я не сплю ночами, думаю: живы хоть они там? — так до этого никому и дела нет. И одно у меня, братко Алесь, из головы не выходит: уж не вляпался ли я тут навеки батраком немцу служить? Еще и подписку взяли, что не буду удирать…
Алесь смотрел на земляка, на серый чуб его, давно не стриженный, причесанный пятерней, слушал его и вспоминал мать на печи и сказку ее под шорканье кудели да тихое, уютное урчанье веретена. Вернувшись с ледяной горки, накормленный и согретый, он слушает:
— А сметюхи, сынок, что во дворе в мусоре роются вместе с воробьями, — это ведь жаворонки, те самые, что весной в поле поют.
Он уж кое-что знал, пастушок и школьник. И возразил:
— А где ж у жаворонка, того, что в поле, чуб?
— Эка невидаль — чуб! Как на зиму отрастет, так к весне и облезет. По весне жавороночек наш — сам, детка, слыхал — звенит звоночком, а зимой, холодами, копошится себе в конском г. . . . да только чирикает. И никуда он не улетает…
Серым и тихим сметюхом, что сидит да только чирикает, показался Алесю и этот братко Солодуха. Пригрело бы родное солнце — и запел бы наш Змитрук, а так…
«Что, если б сказать ему: давай, брат, вместе махнем?.. Скажу, а Мозолек мне: «Баба!..» Сколько собираемся, готовимся. Сергей: «Хлопчики, конспирация, осторожность…» А тут я человеку с улицы — бах и сказал. Так-таки с улицы? А кто ж его пожалеет — мельник, или Гитлер, или Безмен?.. Вишь, как задумался, земляк, как запечалился, глядя в окно. Угадаю, о чем он, а?»
— Что, Змитрук, хорошо теперь у нас?
— Братко ты мой, птушкой полетел бы!..
— Овес косят. Пахнут картофельные поля. Яблоки. Мимо гряд пройдешь — есть захочется. А пахать утречком, а…
— Я, братко, за рыбой света не видел. Теперь же щука пошла. Воскресенья дождешься, наловишь в жбанок веселеньких живцов — и подался по Неману…
— Было это, Змитрук…
— Ты про войну? А про нее, братко, даже думать страшно. И фронт прошел, и чума эта самая — гитлеры — у нас тоже. Остался ли кто жив? А мы тут с тобою…
— Это так, брат. Мы с тобой, покуда там горит, стоим на этом берегу, вылупив глаза, как телята. А имеем право мы стоять, дожидаться, когда народу нашему так тяжко?..
— Да что ж ты сделаешь, братко? Я ли, ты ли — одни мы с тобой тут сидим? Сам видел в лагере — людей со всего света!..
— Брось, Змитрук!..
Алесь встал, надел только вчера купленные пиджак и шляпу, сделал важный вид, заговорил по-немецки.
— Братко ж ты мой — дойч! — улыбнулся Змитрук.
— Ну вот! А вся эта комедия нужна нам для одного — для маскировки. Да деньги — на билет. Из-за этого я и задержался тут вон до каких пор. Ты, брат, слишком не тяни. Теперь как раз пора: они ослеплены победами и меньше будут следить. Собирайся — и ходу. А то плакал наш Яков, плакал, а пан бог все одинаков.
— Я знаю, братко, да что ж… Я тебе прямо скажу, как и ты мне сказал: ты ж меня не возьмешь. И своя у тебя, известно, компания, и толокой на такое дело не двинешь. А я, братко, один, что колос на пожаре. Ни одежи у меня цивильной нету, ни болботать не умею по-немецки. Сиди на своей мельнице, таскай за вола и жди, как вол, обуха…
— Как же это — один? Опустил, брат, уши! Я тебе двадцать хлопцев дам… Ну, не двадцать, конечно, а дам я тебе сегодня адрес одного. Адрес… Какой там адрес, когда он от тебя километрах в пяти живет! В Альтенведеле. Тоже у бауэра работает. Антоно́вич Василь. Вот я тебе запишу. Переодеться надо, Змитрук, собраться надо. Василь тебе поможет, а то, пожалуй, еще и с собой возьмет.
— Пиши, братко, — ожил Змитрук, — а я его найду, скажу, что ты послал. А потом дай мне бумажки, и я тебе запишу моей бабы адрес. Ты уж, братко Алесь, сделай милость, напишешь ей, что я живой, что и я, скажи, скоро приду. Хоть водой, по Неману, а пошли…
Руку жмет на прощание, а в глазах даже слезы.
— Ничего, Змитер. Тут, брат, надо только постараться, надо только хотеть. И, прости меня, молчать надо пока что. Я — тебе, а ты, гляди — Антоновичу — и все, больше не ляпай.
— А, братко, что ж я, дите, жить я, что ли, не хочу?..
Алесь проводил земляка до двери и, пока он медленно спускался по лестнице, по-лошадиному грохоча подковами, грустно глядел ему вслед.
На последней ступеньке тот оглянулся, еще раз дернул пальцами ломаный козырек и, взамен добрых слов, засветился улыбкой — широкой, родной.
Уже, кажется, не «сметюх»…
2
«Значит, сегодня, — думал Алесь,