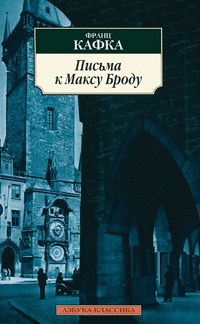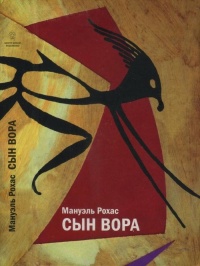Книга Птицы и гнезда. На Быстрянке. Смятение - Янка Брыль
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Знали покуда только они, самые близкие, и Терень.
Было решено: Алесю с Андреем двинуться в разведку. Проберутся — дадут сигнал, что и как. Письма с той стороны уже пошли. Покуда только с приграничных пунктов — из Гродно, Бреста, Белостока. Те, что останутся, будут изворачиваться — перед Безменом, перед полицией: «Мы что, мы и не думаем. А те двое — молокососы, они уже не первый раз убегают…» А потом — и сами…
Ну, а при чем тут в их давно и крепко сдружившейся компании Терень?
Да просто при том, что от него теперь никуда не денешься. Он уже вторую неделю живет в их комнате. Теперь Грубер с ними не церемонится, как до войны с Советами, без лишних слов вселил к ним третьего, комнатку Тереня сдав рабочему-немцу. И хлопцы не стали бунтовать: недолго им тут жить осталось, да и осторожность нужна.
«Вот ты и поосторожничал… — уже без улыбки подумал Алесь. — Рассиропился… О, слышишь, еще одна идет!.. Скажи и ей. Это ведь так душевно будет, так хорошо выйдет у тебя по-немецки: «Auf Wiedersehen, Heimat ruft!»[146]
Она шла сюда, Марихен. Это ее козье «туп-туп» послышалось внизу. А вот и она сама. Серьезная, светлая, с чистым постельным бельем на левой руке.
— Здравствуйте, — поздоровалась… ну совсем официально.
— Здравствуй. Как живешь, Марихен?
— Спасибо. Хорошо.
Ясно — все еще сердится.
Не ладилось у нее почему-то с уборкой их комнаты. Когда еще их двое жило. И случалось, что, вернувшись с работы, они заставали пол неподметенным, ведро в коридоре — пустым… Ну ладно, постели мы сами постелем, воды тоже принесем, но почему же такое пренебрежение? Неужели и это бедняцкое дитя уже научилось не считать их за людей?.. После того как на фольксфесте Алесь увидел Марихен с летчиком, он как-то упрекнул девушку за невнимание к ним. Она залилась краской, но промолчала. Потом ребятам, когда пригляделись получше, стало ясно, что ей и в самом деле некогда дохнуть…
Девушка перестилает постель и молчит. Низко склонилась, и все же сбоку видно, что по губам ее пробегает улыбка.
— Марихен!
— Ну что, забыл, как меня зовут?
— Чего ты на меня злишься?
— А почему ты такой… нехороший?
— Я?
— А что, по-твоему, я?
— Ну, не такой уж я, если подумать, и плохой. Мы просто не знали, что у тебя тут так много работы, что Груберы твои такие пауки. Мы думали — ты с нами так потому, что мы пленные… Ты не сердись. Что, не сердишься уже?..
Она не выдержала, засмеялась.
— Хочешь меня на ручки взять?[147]
— Ты скажи только «нет» или хоть головкой кивни, чтоб я знал, что уже не сердишься.
И что же — девушка сказать не сказала «нет», а головой кивнула. Да еще глянула исподлобья и опять прыснула. Алесь — тоже.
— Ох, да! — вздохнула Марихен, невольно повторяя выражение отца. И чтобы сказать хоть что-нибудь, добавила: — Lachen, Alex, ist gesund! Oh, ja![148]
— Ты знаешь что, Марихен, — вдруг по какому-то вдохновению заговорил он, — я тебе должен был что-то сказать. Об одном чудесном человеке.
— Ну что? — насторожившись, спросила она.
— А не будешь больше сердиться?
— Я ведь сказала.
— Ну ладно. Слушай. Как-то был тут у нас твой фати…
Он с удивлением заметил, что она покраснела, однако продолжал:
— И фати твой говорил нам, Марихен…
— Это мне, если хочешь знать, совсем-совсем не интересно. Это тебя, если хочешь…
Со двора послышался так хорошо знакомый, так уже опостылевший голос:
— Мар-ри!..
Но сейчас он пришелся, видно, как раз кстати. Марихен как держала подушку, так и бросила ее на кровать и, пряча лицо, побежала мимо Алеся из комнаты. В дверях зацепилась фартучком за крючок, и, неожиданно для Алеся, впервые при нем у нее сквозь слезы сорвалось:
— Sakarment!
Чемоданы лежат у порога, один на другом. В них — по буханке хлеба да по куску кровяной колбасы, взятой на всю карточку, авансом. Там и рабочая одежда — военная форма, в которой они вышли из шталага. И бросать жалко, и хлеб с колбасой не будут так греметь.
Терень уже в постели, ему как будто и дела нет до их отъезда. Он сейчас только узнал, что уезжают они именно сегодня. «Двое уедут, а больше здесь останется, так что ты, брат, гляди, — я ничего не знаю, не ведаю». Так его вежливенько и предупредили. И он молчит, отвернувшись к стене.
А беглецы сидят пока, до поезда, у затемненного окна и тихо беседуют.
Говорит, как всегда, больше Алесь.
— Ну, то, что они, если б не закон, сами к нам лезли бы, так это, брат, факт. На «Криштальглясс», в Нойштадте, было их — целая бабья армия. Днем, как из столовки выйдут, так и норовят снежками наших зацепить. Хотя мастера, как евнухи, следили за ними, ругались. Черные, рыжие, белые фройляйн — все как огонь. Здесь, правда, белых меньше, чем было в Померании. Только вот наша Марихен. Да она не из таких… А там, стервы, распущенные есть, языкастые. Как и на «Детаге», впрочем. Этакая модненькая, в культурном халатике, а идет в перерыв по цеху и кричит по-нашему, кто-то только что научил: «Хотшешь — дам! Хотшешь — дам!..» Было раз и похуже…
— А чего там похуже? — не выдержал Терень, повернулся на спину. — Природа к природе тянет. Хе-хе-хе! И наши хлопцы молодцы, кто маху не дает. Ты вот, Руневич, я слышал, про Марихен: «Она не из таких… Помирился я сегодня… Отчего-то заплакала…» А ты посмотри лучше, как она бегает за этим солдатом. Ты один раз этого «флигера» видел, а мне… мне говорили, что он ее водит каждый вечер. Ты думаешь, они там молятся?
Мужчина под сорок, гладкий, красномордый, он лежал на подушке, как после бани, и довольно, с невинным видом улыбался.
— Ну-ну, и дальше что? — тихо спросил Алесь, сощурив глаза под сдвинутыми светлыми бровями. — Что ты еще нам скажешь?
— А что мне говорить! Бьют — беги, дают — бери, не дают — постарайся.
— И много ты на-ста-рал-ся? — спросил Мозолек.
— Да уж побольше тебя!
— Тебе бы, дядька, не о том думать. Там, может, хлеба корки нету, сидят, может, на пожарище… Детей же, сам говорил, полная хата. Пойди хоть лапотки на зиму поплети…
— А тебе что? — привстал на постели Терень. — Можно будет — так и пойду.