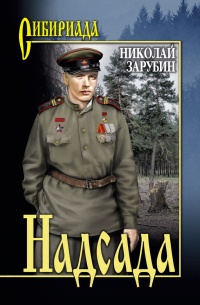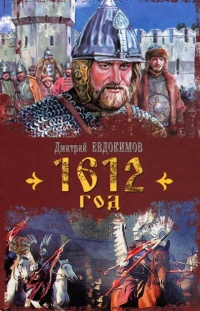Книга Духов день - Николай Зарубин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Производство хотя бы взять. Не поверил Василий парню, что на работе было у него все гладко. «Колымагу дали» – не могло это его устраивать. В среде рабочей друзей не искал – и это начислялось как зарплата. А пришло время расчета – разбираться не стали, вытолкнули на широкую скамью подсудимых. Плюнули и растерли.
«Бывает еще у нас так, ой как бывает…» – размышлял Василий, припоминая до мелочей и свой визит к руководству предприятия, где работал Иван.
Пошел он туда, имея просьбу: чтобы оградку помогли изготовить да автобус выделили для поездки на кладбище. Но главное – хотелось посмотреть на людей, о которых много слышал от брата и в существование которых верил смутно, зная по опыту, что с таким характером, какой был у Ивана, ужиться с кем бы то ни было – задача почти неразрешимая. От того и пихали его то на сельхозработы, то на разгрузку строительных конструкций, где и нашел он свою смерть.
Когда назвал себя, вроде даже и не расслышали, кто он. Высказал просьбу, вроде и не поняли, что ему нужно. Из одного кабинета перешел в другой, а там и в третий. Сидят, усердно шелестят бумагами, хватаются за телефоны. «Дойму же я вас», – решил Василий и направился прямо к директору. Вошел, не спрашивая разрешения, сел, намеренно не отвечая сразу, кто он и что ему нужно. И лишь насладившись начальственным недоумением, сказал холодно, твердо: – Я брат Юрченко, хотел бы знать причины его гибели.
И, как пишут в романах, – «в мгновение ока все переменилось». Директор, оторвав тело от стула, принялся ссылаться на занятость, указал на бумаги, на телефоны, на окно за спиной, выйдя из-за стола, повел речь о плане, о его личных как руководителя сложностях в управлении предприятием, о том, что за всем «не усмотришь», везде надо «самому», ни на кого «нельзя положиться». Кончил тем, что через внутреннюю связь вызвал к себе инженера по технике безопасности и еще кого-то. Те явились незамедлительно, словно наготове стояли за дверью.
Пуще директора засуетились подчиненные – бегающие глаза, взмокнувшие лица, потерянные голоса. Схему, вычерченную на ватмане, достали, на которой изображены были и линия электропередачи, и как стоял автокран, и где был исполняющий обязанности стропальщика ввиду производственной необходимости фрезеровщик И.Н. Юрченко.
Слушал их Василий, смотрел на них и дивился человеческой податливости на всякое зло. Выходило: виноват во всем автокрановщик – тоже погибший, поскольку стрела при разгрузке конструкции коснулась проводов линии электропередачи. Смешно было бы уцелеть. Но еще смешнее было допустить, чтобы люди работали вблизи страшной силы, каким является ток высокого напряжения в тридцать пять тысяч вольт. Василий даже вздрогнул, представив, как с жутким потрескиванием электроны скачут внутри проводника, словно подталкиваемые напирающими сзади собратьями, и по пути автоматной очередью разряжаются по двигающимся живым мишеням. Плевать им, что через них в конкретной человеческой семье будет горе, а он, Василий, будет сидеть в этом кабинете с совершенно измученной душой, с чувством, близким к гадливости, будет слушать, как добивают поверженных в прах истинные виновники случившегося – со знанием дела, с отстраненной от всего на свете совестью.
«Интересно, – глядя на них, думал Василий, – как бы любой из вас вел себя на моем месте? Кричал? Взывал к справедливости? И кричал. И взывал к справедливости. А как бы я вел себя, оказавшись на их месте?..»
Здесь его мысль оборвалась: ответа не было. Оборвалась, потому что разрядилась в саму себя. И это было мучительно. Только человеку дано познать безвыходность, всякая другая сила на свете в кого-нибудь или во что-нибудь разряжается, на кого-нибудь или на что-нибудь оказывает действие. Но ко всякой однажды недодуманной мысли человек возвращается. И Василию сейчас нестерпимо захотелось поделиться ею. Он вспомнил, как перед отъездом мать сунула в портфель бутылку вина.
– Может, где помянешь Ваню…
Тогда он, целиком ушедший в себя, горько усмехнулся: где же найти способного понять собеседника? Теперь поразился мудрости матери, угадавшей состояние сына, из которого есть только один выход – через людей. Он поставил бутылку на стол, извинился, впервые за долгую дорогу внимательно посмотрел на своих попутчиков. Старушка и пожилой мужчина ничему не удивились, словно явление его народу было им ведомо в самом начале, парень забеспокоился, но смотрел с любопытством: для него Василий был объектом новым, который еще надо познать и завоевать.
– В самом деле, – не зная с чего начать, сказал Василий, – едем мы в поезде давно и не познакомились, хотя я переслушал все ваши разговоры.
– И ты, милый, чайку с нами попей, – поддержала его старушка, – видим, как на своей лежанке вертишься… Мы тут про жизнь все, дорога-то дальняя.
– Да… – для чего-то посмотрел в окно мужчина, – дороги рассейские не объездить, не обходить. Уж где я за войну-то не бывал! Только сгоним немца из одной страны – глядишь, она-то уже и кончилась. А у нас – едешь-едешь, идешь-идешь…
– А я так нигде и не был, – решился вступить в разговор и парень. – Сейчас вот еду, а куда – сам не знаю.
– Не верю я, что не знаешь, – оборвал его Василий, – давай уж до конца выговаривайся, а для начала – выпьем. Интересны мне твои разговоры…
Разлил в стаканы из-под чая вино, не выпуская из руки бутылку, добавил, как бы сглаживая резкость тона:
– Мать вот в дорогу положила. Помяни, говорит, с людьми брата… с похорон я…
Подал стакан парню.
– Зовут-то тебя как?
– Мишкой.
– Давай, Михаил, за брата моего Ивана, а потом уж и за твои, так сказать, проблемы…
* * *
Накатанная многими колесами железная дорога надвигалась названиями станций, грохотом мостов через большие и малые реки, унылым или, наоборот, веселым пейзажем за окном. Старушка дремала, укутав ноги одеялом, мужчина читал газету.
Они говорили, как давно знакомые, и в голове Василия уже не мелькало в отношении парня удобное и обидное определение «зэк». И парень вспомнил себя не ломаным и некрученым, каким был пять лет назад, только в рассуждениях прибавилось зрелости и уверенности.
Василий и радовался этой уверенности, и дивился настроенности на преодоление.
– Ты вот, Михаил, не понял, за что тебя ударили. А не боишься, что снова ударят? Не боишься снова быть брошенным на землю вниз лицом? Что делать-то будешь, если долбанут или сам где накуролесишь?
– Не выйдет. В зоне народа глупого мало попадается, лучше любого юриста разберут любое преступление. И если уж, освободившись, снова становятся преступниками – натура так велит. Природа человеческая пакостная. Такие и в зоне обживаются, как в родительском доме. И коль ты послабее, так и норовят тебе подлянку сделать. Мне ведь два года как добавили: дал одному в морду, а он упал и орет, будто его режут, – заранее рассчитал, что услышит кто надо. Но есть другие люди, их бы я даже и не держал там. Через такие душевные муки прошли они, через такие казни и инквизиции, что рядом ни с кем нельзя поставить. Вот я себе нашел корешка – год ему еще отбывать. Кремень мужик. На воле художником был и, говорит, в большие метил художники. На машине человека убил. И человек-то, говорит, всего ничего, бич какой-то, в пьяном виде под колеса угодил, а ему – на полную катушку. Так вот он-то и объяснил мне смысл жизни, через него и я много чего уразумел. «Ты, – говорит, – Миша, тех людей забудь. Их равнодушием бить надо, чтобы чувствовали вокруг себя вакуум, пустоту. Они ведь потому друг другу на шею бросаются, что устают от собственной исключительности. И друг другу они чужие, какими были и тебе. Все у них рассчитано и измерено, каждый шаг, ничего просто так человеку не сделают. Но самое страшное, – говорит, – добром показным пробивают себе дорогу. Исключительность свою, когда надо, прячут подальше. По головам человеческим ступают и такие карьеры делают, что только диву даешься». Не сразу я поверил, долго ходил, смотрел, как ведет себя, как держит, поступает. А поверил – жить легче стало, почувствовал, что выкарабкиваться стал из ямы. На волю захотел. К людям захотел.