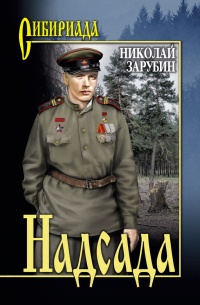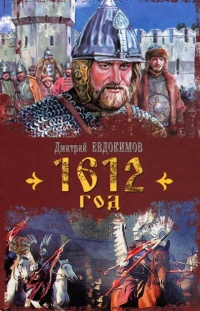Книга Духов день - Николай Зарубин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Василий был свидетелем, как в этот день, несмотря на самые жесткие запреты, люди, ну хоть на полчаса, хоть на десять минут, хоть всего на одну минуту изощрялись в старании раньше положенного срока покинуть свои рабочие места. И уходят. Нет на свете ничего дороже и выше памяти крови, ибо в ней сосредоточено все то, что за всю историю своего существования накопило и упрочило, собрало и воссоединило человечество: чувство родственных связей, чувство национальной гордости, чувство Родины. Чувство изначальности всего сущего – матери всех матерей – Земли, из которой поднялось и расцвело само дерево Жизни.
Никак нельзя человеку забывать, откуда он, а забудет – не будет знать, куда идти. И растеряется. И потеряет себя. И разом засмеется и заплачет. И устанет жить. И перестанет бороться за жизнь. И погибнет…
На очередной станции поезд, уже остановившись, вдруг дернулся, словно не хотелось ему впускать в свои вагоны новых пассажиров. Не хотелось и Василию, чтобы в их тесном и тихом купе появился еще кто-то, поскольку одно место на второй – против его полки – оставалось пустым. Не хотелось всякой, даже мало-мальской помехи, могущей порушить пока еще слабое, но уже наметившееся в нем примирение с потерей части его самого в ушедшем из жизни единокровном человеке – брате Иване.
Но четвертый появился. Появился заметно, чуть ли не с порога навеличивая мужчину – «папашей», старушку – «мамашей». Василий хотя и не видел соседа, но обостренным слухом своим уловил в голосе вошедшего и желание понравиться, и осознанность того, что сделать этого не может, да и не умеет. Василий приподнялся, быстро взглянул на «зэка» – так уже окрестил про себя соседа. «Зэк» и есть: короткая стрижка, лицо бледное, какое бывает у людей, поставленных в условия, где нет человека «такого-то», а есть «осужденный такой-то». А «зэк» разряжал обстановку, решив, видно, с маху на первых встречных опробовать свой горький зэковский опыт общения с людьми – немало ведь, наверное, передумал о том, как «воля» воспримет его и как он сам сможет воздействовать на «волю».
– Вы, мамаша, интересуетесь, где я работаю? Летчиком я работаю. Лед, то есть, вожу. Видали, наверное, из окна вагона, как провожала меня моя кобыла Машка. Так, скажу я вам, кобыла такая только у меня и есть. Едешь, едешь, а она вдруг сядет на пенек и призадумается…
– Здоров ты, милый, врать-то, – небеспричинно заволновалась старушка. И тут же понимающе добавила: – Я хочу спросить тебя: что делать-то собираешься? Есть ли родители, еще кто? Куда едешь-то?..
– Эх, мамаша, хорошая вы, я вижу, женщина. В тещи бы такую, да всех дочек замуж, наверное, поспихивала.
– Почему же – поспихивала, сами в люди вышли. И про зятьев ничего худого не скажу.
Неудивительным показалось Василию то, что «зэк» в конце концов заговорил нормальным человеческим языком, на котором говорил до своего падения и которого не успел позабыть. А коль не успел позабыть, всегда остается надежда на возрождение, и это тоже Василий отметил. В нем начал пробиваться неподдельный интерес к разговору, свое на время отодвинулось, ушло куда-то в сторону.
– Вы, мамаша, правильно угадали, только что освободился я, пять лет отдал «хозяину». Я не буду убеждать вас, что я, мол, хороший и попал туда по глупости или по чьей-то злобе, хотя в зоне за все пять лет мне не приходилось встречать никого, кто бы в том, что сидит, обвинял только себя. Я только скажу вам для начала – и вам, папаша, скажу, что есть во мне большое желание выправиться и в людях жить по-людски. Иметь жену, детей, дом, работу. И чтобы не кололи глаза прошлым. Заслужить, чтобы не кололи… Только выслушайте, а я постараюсь рассказать по порядку, что и как со мной произошло.
До армии я жил, как и все. Отслужил, как все. Механик-водитель первого класса. Ну, устроился на автобазу – колымагу дали. Начал работать, осматриваться. Вечером – на танцульки, и не заметил, как женился. Все в норме! Проходит год, другой, и вижу я, что в семье-то моей вроде что-то не то. (А жили мы у ее родителей.) Так вот. Все вроде своим-то не могу им стать. А между собой у них, ну, прямо любовь не разлей вода. Три-четыре дня не видятся и бросаются друг дружке на шею, будто лет пять прошло. Поначалу даже радовался, что в такую семью попал, где ни ругани тебе, ни других недоразумений. Мои-то родители жили как на ножах, сколько себя помню, все отношения выясняли. Ну и стараюсь, работаю, друзей позабывал. А жили мы в доме барачного типа, где был общий на три семьи коридор. Там все разувались, снимали верхнюю одежду. Так вот. Пришел я как-то пораньше и в том коридоре задержался. Да и слышу разговор тещи с супругой. «И ты, – говорит, – сколько с ним собираешься жить? Что же, говорит, – по сердцу пришелся? Для него ли мы тебя растили?..» – «Да, мама, – отвечает, – неудобно как-то сразу взять и разойтись. Ребенка моего удочерил, да и плохого – что же про него сказать?..» – «Ну и, – говорит, – будет с него, Оленька теперь у тебя не нагулянная, дело свое он сделал. Запись в паспорте твоем законная». – «Ну, подожду, – отвечает, – не торопи меня…»
«Так вот в чем дело, – подумал. – Нужен я им был для того, чтобы своим чистым паспортом грех дочки прикрыть… Куда же, – думаю, – они тебя готовят…»
– И впрямь, – засомневалась старушка, – кому же они могли ее назначить?..
– В общем, прилип к двери – оторваться не могу. Помолчали они, и теща опять: «Ты когда в последний раз звонила Валерию?» – «Позавчера». – «Когда у него оформление документов?» – «В ближайшие три-четыре месяца». Теща вроде стукнула чем-то, в сердцах вроде. «Вот зятек свалился на нашу голову – уцепиться не за что! Пил бы хоть, что ли…» Выжидали, выходит, пока я закуролесю, и кранты мне. Понимаете! Я в жизни своей ничего подобного не встречал. На что уж в зоне дерьма полно, но чтобы так ни за что ни про что человека втоптать… Дернулся я – и в мордобойку – есть у нас такая на вокзале. Врезал пива, чего покрепче, и все во мне перемешалось. Помню, что приволокся домой, кричал на них, обзывал, поубегали они от меня, а проснулся – в милиции. Закружилась карусель, в общем. Теща на меня – заявление, супруга – заявление, какие-то свидетели выискались, каких никогда и в глаза-то не видел. Справки представили о телесных повреждениях, о том, что это было у меня в системе. Но главное… на работе такую характеристику выдали, что хуже меня будто никого и нет.
– Батюшки! – охнула старушка. – А там-то чего не разобрались?
– И никто не стал разбираться. Провернули все в считанные дни. Будто у них все уже было наготове. Говорю я, предположим, что-то следователю, а он этак боком на меня поглядывает и только одно повторяет: «Разберемся, подследственный, разберемся». И разобрался на три паски, да две в зоне накинули – психовал я первый год, места себе не находил.
Все в этом рассказе, не считая мелочей, было выверено и расставлено по своим местам. И люди встречаются глаже камня и с такими же каменными внутренностями. И сам человек, занося ногу для первого шага в самостоятельную жизнь, не всегда знает, куда ее поставить. Вытянет вперед себя руки, растопырит пальцы и бредет по стертым и выбитым дорогам бытия, пока не долбанется о что-то острое и твердое. Покрутит головой, помычит – и дальше. А там и яма, из которой уже никогда не выбраться. Но бывает: так долбанется, что задумается; и начинает сначала один глаз разлипаться, затем – другой. И прозревает человек. Заново принимается ощупывать знакомые предметы, искать всем и всему названия. Здесь для него и наступает самое время взять в руки фонарь и средь бела дня идти на улицу – на поиски такого же зрячего, как и сам.