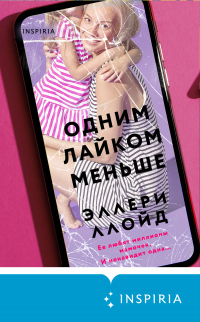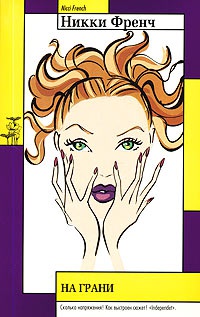Книга Летний ангел - Монс Каллентофт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Поехали, черт вас подери!
Вокруг них все полицейские на мгновение замерли, словно ее отчаянный голос остановил время, заставил всех на мгновение заглянуть в вечность.
— Куда вы, Малин? — крикнул им вслед Свен.
Но она не ответила, не хотела, чтобы они ехали туда всей толпой и наломали дров — если еще не поздно. Не хотела, чтобы Свен звонил недотепам-коллегам из Финспонга, кто знает, что они могут устроить?
Нет.
Теперь я, мы — против тебя.
Я знаю, где ты, Вера Фолькман, и знаю, почему ты делаешь то, что делаешь.
Твое безумие — горькое безумие. Ты веришь, что сможешь вернуть из мертвых свою сестру? Ее, вашу любовь? Твое безумие — красивое безумие. Но моя задача — положить ему конец, уничтожить его.
Это задача Янне. Зака. Но прежде всего — наша с тобой, Янне. У нас есть ребенок, и мы будем биться за него не на жизнь, а на смерть.
Малин сидит сзади, рядом устроился Янне, положив голову ей на плечо. Оба стараются не спать, обмениваются замечаниями по поводу мест, которые проезжают, чтобы убедиться, что Зак не заснул за рулем.
— Озеро Роксен в утреннем солнце так красиво.
— Монастырь Врета выглядит потрясающе.
— Сейчас мы прикроем эту лавочку.
Уже в машине Малин объяснила, что Вера Фолькман наверняка повезла Туве к своему отцу Стюре Фолькману, чтобы там поставить точку в этом танце смерти, который продолжался слишком долго и которого Линчёпинг с окрестностями никогда не забудет.
Они проносятся мимо монастыря Врета и полей для гольфа на скорости сто пятьдесят километров в час, оставив за собой пустой спящий Юнгсбру.
Они проезжают область лесных пожаров, где автомобили стоят рядами, видят пожарные машины, уезжающие прочь, в кабинах усталые мужчины с закопченными лицами; в глазах их отражается отчаяние, словно огонь и жар оказались сильнее, словно они собираются капитулировать и дать огню превратить все леса Эстергётланда в пустыню.
— Тебе хотелось бы туда? — спрашивает Малин, но Янне не отвечает.
Темно-красные обои. Скрипучий деревянный пол.
Он обездвижен. Ты скоро будешь здесь, на полу.
У меня все готово, сестра моя.
Чтобы ты могла восстать из мертвых.
Чтобы наша невинность могла возродиться в пылающей белизне.
Я в последнем приделе.
[В последнем приделе]
Впервые я, Стюре Фолькман, пошел на поводу у своей похоти в семнадцать лет.
В Энгельхольме, возле завода, стоял киоск, в котором она — ей было одиннадцать или двенадцать — покупала сигареты для своей матери.
У нее было белое платье.
Оно заканчивалось гораздо выше колен, и стоял жаркий день, почти такой же, как некоторые дни этого лета.
От киоска она шла по тропинке позади завода, и там цвели азалии, самые прекрасные, какие я когда-либо видел.
Я догнал ее.
Повалил.
У нее не было там волос, и я понимал, что это со мной в первый, но не в последний раз, что эту лавину уже невозможно остановить, и я прочел в ее испуганных глазах, что на самом деле ей понравилось, что она любит меня, как и все мои девочки, хотя некоторые из них потом свихнулись. Я держал кроликов в клетках, чтобы порадовать их. Девочки любят кроликов.
Ее белое платье обагрилось кровью.
Я шептал ей в ухо, держа пальцы у нее на горле:
— Ты будешь молчать об этом, иначе тебя заберет дьявол.
Стыд сильнее любви.
Стыд был моим лучшим союзником все эти годы. Удобнее всего, когда девочки жили у меня в доме, один Бог знает, как я возбуждался от скрипа половиц под ногами, когда шел по ночам к ним в комнату.
Они ждали меня с нетерпением.
Лежали без сна и ожидали меня, мои длинные ловкие пальцы, мое прекрасное тело.
Я был всегда очень осторожен.
Снимал с них одеяло.
Ласкал их нежную белую кожу.
Кровь, моя или чья-либо, меня никогда не волновала. Я дарил свою любовь всем тем девочкам, которые попадались на моем пути.
Ты проснулась, моя девочка, мой прекрасный летний ангел.
Мы уже здесь, в последнем приделе, и сперва ты увидишь, как я сделаю это.
Я забила в деревянный пол четыре больших гвоздя, привязала тебя к ним. Смотри в мою сторону.
Я сажусь рядом с отцом на его диван.
На мне маска, так что мое лицо лишено очертаний, я надела мои белые паучьи лапки, прижимаю ожерелье из когтей кролика к его щекам и рву его кожу, он кричит, старый пень, но на самом деле в нем уже не так много жизни осталось.
Ты отводишь глаза.
СМОТРИ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ!
И ты смотришь.
Она голая, на ее лице снова маска.
Голова болит, но Туве отчетливо видит эту сцену, понимает, что находится в затхлой квартире бог знает где и что женщина, совершенно голая, сидит рядом со своим отцом и собирается сделать ему что-то плохое.
Зачем?
Она кричит, чтобы я смотрела, но я не хочу смотреть, и она снова царапает ему щеки, и он кричит.
Она встает.
Ее тонкие белые хирургические перчатки мерцают в слабом свете.
Я не могу подняться.
Запах хлорки, которой мама обычно выводит пятна.
Мама, папа, торопитесь!
Я слышу, как она возится в другой комнате, выдвигает ящики, что-то разыскивая, и мужчина пытается кричать, но она заткнула ему рот тряпкой, как и мне.
Никто из нас не может подняться.
Никто из нас не может бежать.
Нож.
Старый кухонный нож, который мы с Элизабет мечтали вонзить в него, он сохранился — длинный грубый нож с бакелитовой рукояткой.
Я беру его из подставки возле мойки.
Держу в руке. Думаю о том, как неудачно все получилось с Софией Фреден. Я увидела ее, когда она работала в кафе в «Тиннисе» в прошлом году, и у нее была такая же походка, как у тебя, Элизабет, и по поводу нее я подумала, что если сделать все быстро и в одном месте, то мне удастся добиться желаемого результата за счет скорости и шокового эффекта, как при взрыве или бурной химической реакции. Я царапала и рвала ее когтями — она первая, с кем я попыталась это проделать, — но ничего не добилась. Кролики — всего лишь животные, их любовь бессмысленна.
Я отмывала ее дочиста прямо в парке. Работала очень быстро.
Но она повисла у меня на руках, когда я нажала на ее шею.