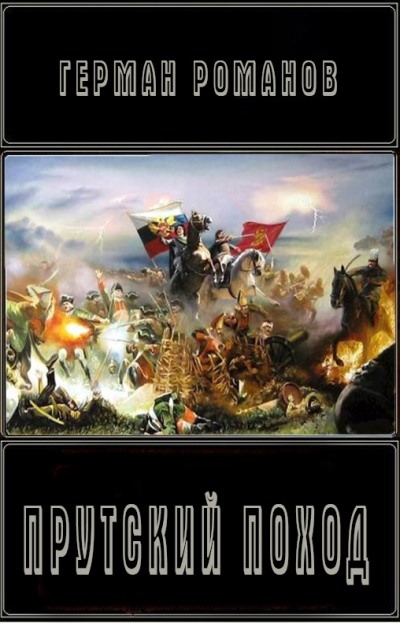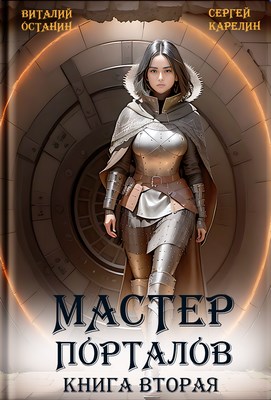Книга Не с той стороны земли - Елена Юрьевна Михайлик
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Казалось бы, безграничен, устойчив, неопалим…»
Казалось бы, безграничен, устойчив, неопалим,
но, кого ни спросишь – отсутствуют,
чего ни хватишься – нету.
Приходит Торквато Тассо как обычно в Иерусалим —
а тот ушел к Магомету.
По всей поверхности бродят развеселые гуляй-города,
причиняя друг другу политику, беспамятство и увечье,
Один Египет лежит примерно там, где всегда,
но говорит не о том и на другом наречье.
Археологи ломают головы, обнаружив мост или стык —
параллельное развитие? Неизвестные катаклизмы?
Потому что всех тех, кто помнит, что здесь был один
материк,
не отыскать ни в словарях, ни в письмах.
Памяти Михаила Леоновича Гаспарова
Если ритма и смысла нет, все равно измерьте,
все, что выпадет – ваше, можно в любой из дней
написать работу «Столица как способ смерти»,
долго жить, составляя библиографию к ней.
Если бродят вокруг пожары и урожаи,
уповая на грядущую благодать,
если ход истории остановил трамваи,
можно выстроить модель и публиковать.
За спиной тяжелое ли, звонкое ли скаканье,
чем раздатчица талончик ни отоварь,
чем бы мир ни горел, чем бы ни пресеклось дыханье —
зафиксировать, изучить и вставить в словарь.
И конечно, сочетаясь с уличным свистом,
сетевым лубком, граффити некочевым,
подсчитать приметы перистых и слоистых
и частотность употребления кучевых.
«что ты мямлишь жив ли нем ли…»
что ты мямлишь жив ли нем ли
да я знаю здесь провал
кто-то ян не помню мемлинг
на заборе написал
и теперь ползут с забора
города и господа
злые ангельские хоры
чье-то зеркало в котором
львы и мокрая вода
на воде литой и плоской
зимний стражник от тоски
нарисует окна босха
и не сохранит руки
но зубастое из чада
озирая сей пейзаж
скажет нам сюда не надо
для защиты вертограда
кто живой найдите гада
отнимите карандаш
«После толчка сегодня становится давнопрошедшим днем…»
После толчка сегодня становится давнопрошедшим днем,
воздух и вода расслаиваются по шкале,
неузнаваемы слова, невозвращаем – дом,
воробей отворачивается от зерна, рассыпанного
на прежней земле.
Позади, на стыке чумных пластов, на сплетении
дымных рек
никогда ничему не взойти – ни злаку, ни знаку…
Еще ничего не кончено, говорит человек.
и приказывает атаку.
«Где-то в сороковых, те, кто вышел и выжил…»
Не простит на дне морском.
Где-то в сороковых, те, кто вышел и выжил,
замечают, что глохнет черемуха, от Камчатки
и до Парижа,
Пахнет по-прежнему, привычно боль унимает,
все еще разговаривает – но больше не понимает.
Потом наступает конец войны, государства, воды и света
и, естественно, постановлением второреченского
райсовета
та недлинная улица, яма, подобие шрама —
получает имя этого Мандельштама.
Белый цветочный огонь любых небес достигает…
Может прочесть название – но это не помогает.
«Паровоз идет пополам с порошей…»
Паровоз идет пополам с порошей,
над трубой отводное сиянье реет,
абстракционист сидит и рисует лошадь,
в четырех измерениях – как умеет,
лошадь прижала уши, визжит сердито,
говорит, что в этих координатах концов не сложит —
и в какое болото опустит свои копыта,
совершенно не знает, и автор не знает тоже,
только помнит – нельзя добавить ни медь, ни хохот —
тут же пойдут и ритм ледохода,
и невский анапест поздний…
те, кто войдет без стука, услышат цокот,
странно подумать, что с ними случится после —
где это после? полночь ведет комету линией краткой,
красит волну в мандаринный цвет новогодний —
Репин был прав: если однажды суметь нарисовать
лошадку,
далее получается что угодно.
«Как над Бабьим Гаем, над мангровой кожурой…»
Как над Бабьим Гаем, над мангровой кожурой,
над прозрачным Армянском, над Перекопом туманным,
по цветущему морю держат серые пеликаны —
золотой кильватерный строй,
говорили – только глина, песок, зола,
объясняли – сухая порча на поколенья,
но скопилось глобальное потепленье —
и вода пришла,
среди водорослей дрожит, луну обучая ждать
на урартском, на хеттском и на латыни,
а кому теперь внимает эта пустыня,
не вам, поручикам, рассуждать.
Прапорщик Евгений Шварц, кинотеатр «Сатурн», 1934
П. Б.
Слово ползет по границам сна,
из праха в порох перетекая,
а эта гражданская война,
она не единственная такая.
На экране мир по-загробному сер,
пулемет молчит и смотрит героем.
Поперек долины сомкнутым строем —
комбинезоны ИВР.
А сказочник на это глядит
сорочьим взглядом, злым и нестарым,
не убит под Екатеринодаром
и вообще нигде не убит.
Слова текут, но тянут ко дну,
гудят, горят подземные реки,
пережить – и затосковать навеки —
женщину, страну и войну.
Он идет домой – варить волшебство —
а в небе, кривом и неаккуратном,
облака как титры плывут обратно,
туда, где не кончилось ничего.
«И пока во дворе варили асфальт, творили землю…»
И пока во дворе варили асфальт, творили землю
из ничего,
плавили режимные города, жаловались на усталость
металла,