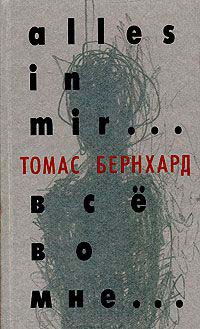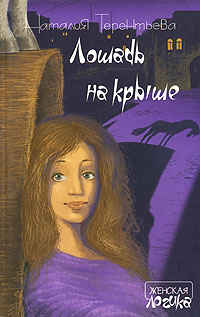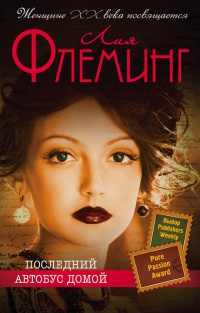Книга Местечковый романс - Григорий Канович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Майор достал из большого бумажного пакета отрез серого сукна, приклад и положил всё на стол.
Отец растерянно глянул на дородного Воробьёва, на Шмулика, застывшего в позе угодливого свата, и на сукно с прикладом.
— Я никогда не шил шинели, — честно признался портной высшей категории шурину.
— Даже не думай отказываться, — приглушённо сказал Шмулик. — Сошьёшь. Я по вечерам буду приходить и помогать тебе, как прежде. И не болтовнёй, не советами, а делом. Я в тюрьме не всё забыл — могу дать фору и Юлюсу, и этому симпатичному беженцу со сладкой фамилией.
— Но твой начальник хоть знает, сколько я беру? — задал отец Шмулику свой непременный вопрос. — Это ведь даже не костюм сшить. Шинель!
— Знает, знает. Заканчивай базар и, пожалуйста, сними мерку. — Хитроумный Самуил Семёнович деланно улыбнулся и от имени отца сделал Алексею Ивановичу придуманный комплимент: — Мой зять говорит, что у вас отличный материал. Ему будет приятно шить.
Пока ошарашенный отец снимал мерку, мама отозвала брата в сторону и шёпотом спросила:
— Шмулик, в местечке говорят, что власти закрывают все синагоги. Это правда? Только не увиливай!
— А тебе что, не всё равно, закрывают или не закрывают? Ты же сама ни в одну из них не ходишь. И Шлеймке не ходит, и три наши сестры не ходят. Для стариков хватит и одного очага мракобесия — Большой синагоги.
С закрытия малых синагог и начались в Йонаве события, которые потрясли всех её жителей независимо от их вероисповедания.
Не щадя уличный булыжник, по местечку целыми днями с грохотом, на большой скорости стали носиться грузовики с вооружёнными солдатами. Они останавливались у домов бывших государственных чиновников, видных членов сметоновских партий и союзов, борцов за свободу и независимость Литвы, явных или скрытых сионистов, владельцев крупных магазинов, земельных участков, фабрикантов. Солдаты выводили их из домов вместе с семьями, сажали всех с ручной кладью и скудными пожитками в крытый плотным брезентом кузов и увозили на железнодорожную станцию, где наготове уже стояли пустые товарные вагоны.
Прозорливый Хаим-Гершон Файн не стал дожидаться худшего — он уволил работников, задвинул заслонку своей доходной печи и унёс из Йонавы ноги, подавшись туда, где его, жену Перл и двух близнецов, как он надеялся, не найдут. Там, в Гаргждай, он не станет щеголять в новёхоньком пальто или костюме, сшитых искусным Шлейме Кановичем. Франт Хаим-Гершон облачится в какую-нибудь хламиду, отрастит бороду, навеки забудет о дневных и вечерних новостях по голландскому радиоприёмнику (к чёрту все новости!), сделает всё, чтобы его не вычислили, не узнали о том, что на проданные за всю жизнь халы и булочки он приобрёл в Палестине десять дунамов[50] земли.
Файну, избежавшему ссылки за Полярный круг, тогда казалось, что он перехитрил судьбу. Хозяин пекарни и ведать не ведал, что обрекает себя на верную смерть. Через полгода он и вся его семья погибнут не как буржуи, а как евреи. А попади они за Полярный круг или в Сибирь, у них был бы шанс выжить…
Нерасторопный, не чувствовавший за собой никакой вины реб Эфраим Каплер не последовал примеру своего давнего приятеля. Он не бросил, как Хаим-Гершон, имущество — трёхэтажный дом, галантерейную и мануфактурную лавки, не перебрался в глухомань, а остался в Йонаве вместе с женой — полнотелой Фрумой, пинчером Джеки, своими желудочными болями, изжогой и бессонницей.
Когда под нашими окнами, скрипя тормозами и отравляя воздух выхлопными газами, остановился грузовик, за рулём которого сидел шофёр в зелёной гимнастёрке, не то калмык, не то бурят, а рядом с ним — молодой офицер с румяным, девичьим лицом, отец сказал то ли сам себе, то ли Мейлаху:
— Конец.
Он стоял у открытого окна и смотрел, как бодро и молодцевато из кузова выпрыгивают солдаты и направляются в лавку — не за датской зубной пастой, не за латышским кремом для бритья, не за швейцарским одеколоном, а за хозяином.
— Жалко реб Эфраима и Фруму, — пробурчал отец. — Горе стране, где бедняков прославляют, а богатых преследуют как преступников.
Я подошёл к окну, прижался к тёплому боку отца и тоже стал смотреть на военный грузовик и скуластого водителя, который, подняв капот, невозмутимо копался в моторе.
Мне, как и отцу, почему-то было жалко реб Эфраима Каплера. Может быть, потому, что иногда, жалуясь на боли в ногах, он протягивал мне поводок и разрешал под его наблюдением погулять возле дома со своим любимцем Джеки. Я не мог понять, чем набожный реб Эфраим, торгующий галантереей и мануфактурой, так провинился перед русскими солдатами. Случилось, видно, что-то очень нехорошее, если отец столько времени смотрит в окно, совсем забыв о своей швейной машине. Меня так и подмывало спросить, что же такое вдруг приключилось, но он сердито повернулся ко мне и скомандовал:
— Марш книжки читать! Ума набираться! Нечего бездельничать и в окно глядеть.
Мейлах и Юлюс продолжали трудиться над шинелью майора Воробьёва, а отец решил выйти на улицу, чтобы хоть словом или жестом попрощаться с реб Эфраимом, извиниться за то, что надоедливым, однообразным стрёкотом своего «Зингера» частенько нарушал по ночам его сон. Отец хотел сказать Каплерам, чтобы они не теряли веру, может, даст Бог, ещё вернутся в Йонаву. Солдаты с винтовками наперевес преградили отцу дорогу и не подпустили к сгорбившемуся реб Эфраиму и нахохлившейся, озябшей Фруме. Не разрешили красноармейцы бездетным старикам взять с собой в кузов и любимую собачку — пинчер с поводком на шее бегал вокруг грузовика и возмущённо лаял. Верните, мол, мне хозяина, куда вы его увозите от меня?
— Мир велн ойф айх вартн! Зайт гезунт[51]! — крикнул отец на языке, которого красноармейцы не знали.
Арестованные Каплеры с баулами в руках не обернулись ни на покинутый, запертый на ключ чужими людьми дом, ни на опечатанную сургучом лавку, ни на крик смелого жильца. Реб Эфраим лишь поднял вверх свою сморщенную, сжатую в кулак руку. Так он словно не только прощался с родным гнездом и квартирантом, но и напоминал Господу Богу о том, что прямо у Него на виду совершается вопиющая несправедливость. Вседержитель молча возмущался и осуждал греховные действия солдат, но руководивший операцией по выселению Каплеров румяный лейтенант, оказавшийся сильнее Владыки мира, громко закричал:
— Немедленно прекратить!
Отец вынужден был замолчать, но пинчеру служивый ничего приказать не мог. Пёсик, волоча поводок, оголтело лаял на представителей самой могучей армии в мире, которые не знали, что с ним делать. Его прогоняли прикладами, отпугивали матерными словами, а Джеки рвался к хозяевам и надрывно гавкал.
— Заберите его отсюда! — не выдержал лейтенант, более терпимый к животным, чем к людям. — Иначе мои ребята в два счёта с ним разделаются.