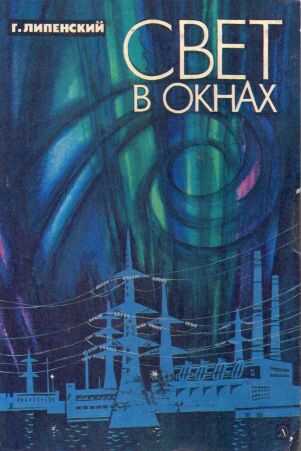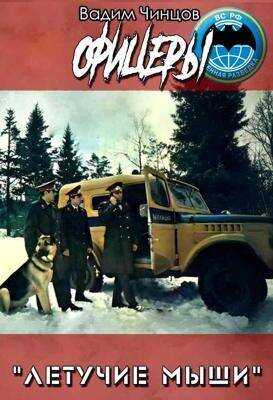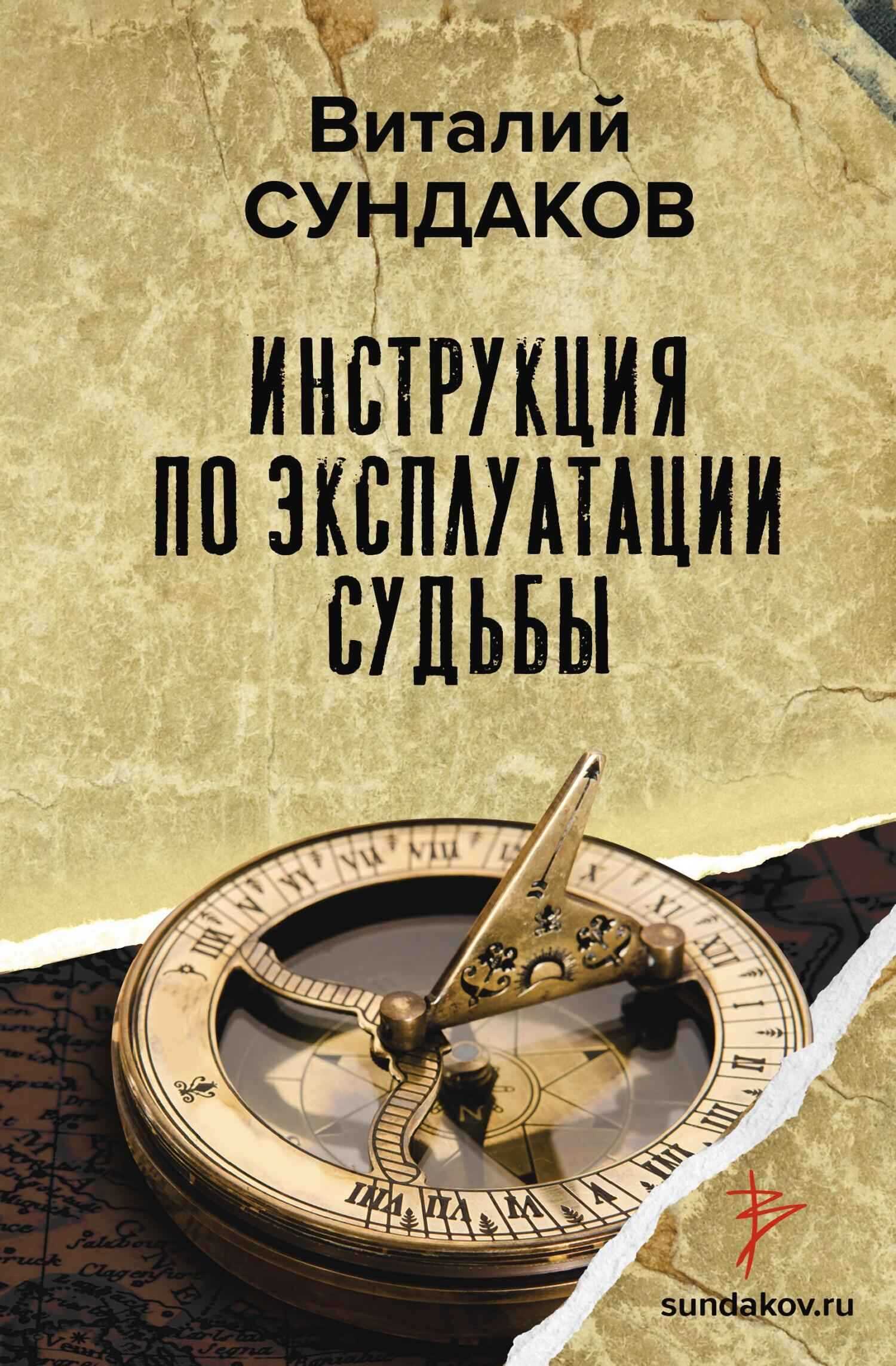Книга Двужильная Россия - Даниил Владимирович Фибих
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Удивительно, как эти люди, начиная с Мехлиса, любили дешевую театральщину!
Мне было задано несколько малозначащих вопросов, и затем надзиратель повел обратно в камеру. Первое знакомство состоялось. Я шел к себе удрученный, недоумевая, чем это так развеселил нового своего следователя. Начало не сулило ничего хорошего.
Так оно вскоре и оказалось. Я попал в руки опытного специалиста ежовской выучки, по сравнению с которым работники Смерша были желторотыми птенцами. Фронтовой прокурор, отбросив фантастическую версию подпольной организации, квалифицировал мое дело как хранение контрреволюционной литературы. Майор Коваленко (я не осведомлен в военно-морских званиях, потому и называю его майором) вновь начал лепить мне мифическую организацию, к которой якобы я принадлежал. На личном опыте пришлось познакомиться с теми методами следствия, которые ныне получили деликатное наименование «нарушение социалистической законности».
На следующем допросе Коваленко вознамерился меня бить. О, это был мужчина решительный и энергичный. Он не занимался, как фронтовые контрразведчики, пустопорожними беседами, не разводил тягомотины. Он брал быка за рога.
Начал он с того, что обозвал меня троцкистом и получил ответ, что перед ним не троцкист, а сталинец. Это было правдой, я не лгал, когда так говорил. В то время миллионы советских людей считали Сталина пусть несколько суровым, жестким, но в данный момент необходимым стране политическим и государственным руководителем. Я не являлся в этом отношении исключением. Тогда я так считал.
Конечно, чудовищное кровопускание тридцать седьмого – тридцать восьмого годов невольно ставило в тупик всякого мало-мальски мыслящего человека. По-видимому, думалось мне тогда, существуют какие-то глубокие, потаенные, скрытые от народа причины того, что вчерашние испытанные революционеры, соратники Ленина, члены ЦК партии, крайкомов и обкомов, наркомы, маршалы и генералы, виднейшие хозяйственники, научные деятели и инженеры, известные писатели, журналисты, артисты вдруг неизвестно почему превращаются в изменников, предателей, фашистских шпионов. Очевидно, что-то неблагополучно в королевстве Датском. Но что именно?
Совершенно неизвестно. Газеты об этом не пишут. Говорить об этом боятся. От народа это скрыто.
Среди безвременно погибших, большей частью забытых ныне писателей и поэтов немало было моих знакомых: Борис Пильняк12, Артем Веселый13, Иван Касаткин14, Сергей Буданцев15, Сергей Клычков16, Петр Орешкин17, Николай Зарудин18, Иван Катаев19, Борис Губер20, Давид Бергельсон21. Перечисляю лишь тех, кого знал лично, тех, у кого – у многих из них – бывал. Написанные ими книги, как положено, изъяты из библиотек и сожжены в особом крематории.
Немыслимо было в те годы представить себе, что всех этих «врагов народа» в действительности сознательно и хладнокровно, жестоким боем и пытками заставляли возводить на себя чудовищную клевету, затем также хладнокровно всаживали каждому пулю в затылок и, заваливая их безвестные могилы грязью, в дальнейшем с тупым свирепым рвением вытравляли всякую память о них. Не довольствуясь этим, всячески преследовали, сажали и ссылали их жен, детей и родственников. Слишком было невероятно.
Но началась война за само существование русского народа, и прилив патриотических чувств начисто смыл все мои раздумья и сомнения. Не только в моих глазах Сталин превратился в единственного человека, способного спасти страну, в гениального стратега, в мудрого отца Отечества. Редкий не попадал тогда под действие гипноза его имени. Мастерски, надо сказать, проводился такой гипноз нашей печатью, и публицистической, и художественной. Особенно ретиво проявили себя Ал. Толстой22, Павленко23, Георгий Березко24, поэты-песенники Лебедев-Кумач25 и Исаковский26.
В лагере я познакомился со старой большевичкой, женой Яна Полуяна, первого секретаря ВЦИК. Она была больна бруцеллезом, тяжелой болезнью, которой заразилась от овец, когда работала чабаном. Ходила с палочкой, еле передвигая больные ноги, – терпеливая, спокойная, мудрая старуха. Не раз были у нас с ней беседы на политические темы. «Вы знаете мое отношение к Сталину. Но сейчас, во время войны, он нужен», – сказала она мне однажды.
О том, что только благодаря военно-политическим промахам вождя немцы дошли до Москвы, а на юге до Кавказа (физическое истребление накануне войны всего талантливого высшего комсостава, совершенно непонятная доверчивость по отношению к Гитлеру, отсталое техническое оснащение Красной армии) – об этом не осмеливались тогда и думать, это и в голову не приходило.
Итак, совершенно искренне я ответил Коваленко, что перед ним сталинец, а не троцкист, как он говорит.
– А, так ты сталинец! – Следователь поднялся из-за стола, за которым сидел, и медленно, крадущимся шагом приблизился ко мне. Я стоял, по-обычному, у дальней стены. Обеими руками он сгреб меня за грудь и с силой стукнул спиной об стену.
– Так ты, значит, сталинец! – повторил голосом, похожим скорее на рычание. Тонкие губы перекосились и побелели. Я понял: левой рукой продолжая держать меня за грудь, правой, кулаком, он начнет бить меня по лицу. И тогда обеими руками я схватил его за оба запястья, стиснул их и сказал вполголоса, достаточно веско:
– Не бейте меня.
Это не было мольбой о пощаде. Это было предупреждение, угроза. Если бы Коваленко ударил меня по лицу, я вцепился бы ему в горло и тут же задушил. Сил на это хватило бы. А там расстреливайте.
Наверное, он понял по тону, каким было сказано, по выражению моих глаз и замер. Минуту мы стояли молча, нос к носу, глаза в глаза. Я продолжал крепко держать следователя за руки и видел, что он опешил и растерялся. Наверное, впервые за всю свою практику очутился в таком положении.
И вдруг, вырвавшись, Коваленко отпрянул от меня и провизжал:
– Убийца! Первый нас будешь вешать!
Это был самый настоящий истерический визг.
Точно на рентгеновском снимке открылась вдруг передо мной вся внутренняя сущность человека во флотском кителе. Я увидел потаенное его нутро. Он был трус, этот злобный истерик. Все время он жил под тайным страхом грядущего возмездия за то, что делал и что делает. Вот такие, как он, первыми бежали, подхватив чемоданы, в памятный день 16 октября 1941 года, когда Москва, проснувшись, утром узнала, что в Химках немецкие мотоциклисты, а правительство эвакуировалось за Волгу, в Куйбышев. Охваченные паникой москвичи ринулись на вокзалы. Все бежало на восток – бежали на поездах, на переполненных машинах, кто не мог – пешком. Руководители учреждений, директора фабрик и заводов выдавали служащим и рабочим зарплату за два месяца вперед и уезжали, бросив предприятие на произвол судьбы. Иные, скрываясь, бросали жен и детей: «Вы беспартийные, а я партийный, мне надо смываться».
Черный день 16 октября, который стараются вытравить из памяти «города-героя» и о котором никогда не будет написано. Мне рассказывали о нем москвичи.
Однако истошный