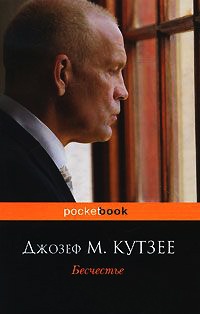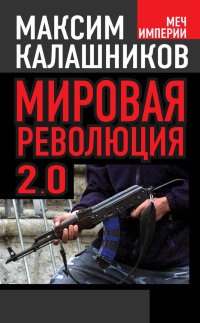Книга Соучастник - Дердь Конрад
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однажды утром ты ушла — и вечером не вернулась домой, ночевала где-то в другом месте: возможно, у этого молодого блондина, который наверняка разговаривал с тобой с большим удовольствием; этим и должно было кончиться. Всю ночь я просидел на балконе, сидел и на другой день — но ты так и не появилась. Примерно в полдень к дому подъехали две машины скорой помощи; я пошел в кухню за ножом. В дверь позвонили, я и не подумал открывать, даже задвинул засов; в замке скрежетал чей-то ключ. Их? Или твой? Потом засов вылетел, они уже были передо мной, а я стоял у стены с ножом. Они велели бросить нож на пол, я не бросил; велели отдать им, я не отдал. Врач подошел ближе, я медленно выдвинул нож вперед, врач отступил. По телефону вызвали полицию, комната полна белых халатов, серых мундиров. На меня направили пистолет; тут в квартиру вошла ты. «Вы выстрелить ему в-в-в руку? — заикался молодой лейтенант. — Имеем п-п-п-раво, са-са-самооборона». И посмотрел на меня. Я, если бы и хотел, уже не смог бы выпустить нож из рук.
«Дай сюда», — сказала ты и, подойдя, взяла меня за руку. Я уронил нож на пол, лейтенант быстро наступил на него; я ударил сначала лейтенанта, потом врача. На меня навалились, надели наручники, в устранении беспорядка играла какую-то роль и резиновая дубинка. Ты окликнула меня с балкона, я не оглянулся. В машине, со скованными руками, я смотрел в окно; мы выехали из Будапешта; шоссе, деревни; приятно было вновь увидеть родной город. У моих друзей длинные руки, меня поместили в одну из самых спокойных клиник страны, где директор — бывший мой однокашник. Из-за того, что я оказал сопротивление представителям власти, меня отправили на принудительное лечение. Директор в светской манере целый час рассказывал мне о своей клинике, потом предложил: гуляй в парке, читай, копайся в саду. Я неподвижно сидел на скамье. В течение недели меня ежедневно подвергали электрошоку; когда перестали, я ощутил охоту двигаться. Подолгу плавал в пруду, на лодочке с веслами возил кирпичи на островок, где строили театр на открытом воздухе.
2
Гроза в конце лета; ты скребешься ко мне в дверь, в толстых чулках приносишь свою скамеечку; когда ты сидишь рядом, моя настольная лампа освещает и твою книгу. Град стучит по балкону, ты радуешься, что мы дома, а не на улице, и подворачиваешь у себя на запястьях рукава моего пуловера. Уходишь на кухню за чаем; кекс ты испекла точь-в-точь, как когда-то пекла твоя бабушка, твои кулинарные традиции уходят куда-то в глубины истории, в теплые ниши первобытных пещер. Если бы в дверь сейчас позвонили друзья, ты бы вмиг соорудила из ничего полный стол; но оно и лучше, что никто не приходит; в изразцовой печке уютно трещат дубовые дрова. Сидя по-турецки на застеленной ковром кушетке, ты, выпрямив спину, вдыхаешь глубоко-глубоко, до самых почек; двумя руками держишь глиняную кружку с чаем, ногти у тебя чуть-чуть грязноваты. Ну хорошо, я снимаю наручные часы и очки, ты по-детски смеешься, твой голос похож на птичий. Мы спокойно созерцаем друг друга; зеленые твои глаза под черными космами расширяются, путь свободен, наш сцепившийся дух может лететь куда вздумается. Ты мечтательно задумалась над своими гадальными картами, вокруг тебя в ржавых сумерках вихрем носятся тайные смыслы, ты купаешься в живой речи, как в пене, о большинстве вещей ты знаешь больше, чем я, разум твой ждет, веселый, упрямый и неприступный. Ты хитроумно отстаиваешь свои утопии; если к полуночи у тебя кончаются аргументы, к утру в твоих снах набираются новые. Я развлекаю тебя всякими забавными историями; «Ты — самый великий врун на свете», — с уважением смотришь ты на меня. Твой смех — подсвеченный прожекторами фонтан, да еще с бумажным змеем над ним. У тебя даже зад — часть души; когда ты выходишь из комнаты, мне тревожно, когда лежишь рядом со мной, я в своей тарелке, я дома.
В 1954-м, когда я вышел из тюрьмы и мы с тобой стали жить вместе, у нас была только узенькая кровать, но ты не хотела и слышать, чтобы мы спали отдельно. Чтобы тебе не мешать, я спал на спине, вытянув ноги, не двигаясь. Так что тебя будило лишь, когда я скрипел зубами: мне часто снилось, что меня бьют. Ты склонялась надо мной, пальцы твои — на моих губах; из ужаса — сразу в объятия. Легким движением ты изгибаешься, приподнимаешься, почти вставая на мостик, красивые бедра напряжены, все твое тело — послание, все внимание наше сосредоточено друг на друге. В лоне твоем — кристаллы плоти, зерна мерцающего сияния, каждое наше нервное окончание по отдельности общается друг с другом, вокруг влагалища твоего — по меньшей мере мироздание, а я — на своем месте, в центре его. И вот ты уже снова спишь, мирно, как ясельное дитя; даже похрапывание твое изысканно. Двадцать лет — одни и те же завитки на лобке, одна и та же углубляющаяся складка под твоей грудью. Каждый твой ноготок я помню отдельно, у меня даже улыбка твоя вызывает желание; во сне я кладу лицо свое на пол у твоих ног. Я ревнив; это ведь я нашел тебя, выловил из миллионов других, мы с тобой — избранный народ друг для друга, никто не смеет вклиниться телом своим между нами. Ты что-то читаешь, лежа на животе, без лифчика, внимание мое раздваивается между моей книгой и твоим задом, обращенным к небесам. Ты носишься голышом по комнате, как обезьяна, и громко хохочешь. Я жду, когда ты выйдешь из ванной, грею тебе постель, делаю всякие мелкие пакости, которыми тебе полагается возмущаться.
Ты приносишь какой-то чудодейственный чай из трав, вкус у него отвратительный, но я должен выпить его, чтобы, кроме тебя, никого и никогда не хотеть. Перестраховки ради ты суешь мне под подушку картофельные глазки, какой-то камень-амулет. Я занял по диагонали всю площадь кровати, тебе приходится лечь на меня сверху. Потом ты расстилаешь вокруг себя тишину и ждешь: в самом ли деле слово, которое ты собираешься произнести, заслуживает того, чтобы быть произнесенным. Прижавшись к тебе, я смотрю в окно, на растущий месяц, он добавляет мне сил. Я нюхаю твой затылок, ты сосешь уголок подушки, вокруг тебя — покой и надежность. Хорошо просыпаться рядом с той, возле которой я хочу ложиться и спустя десять лет. С закрытыми глазами ты шлепаешь за мной в ванную комнату и, еще ничего не соображая со сна, садишься в ванну рядом со мной поболтать.
Я сижу на балконе, ветер швыряет на стол, возле кофейной чашки, ржавый листок; разрезав пополам клубнику, ты кормишь хмельных ос, пока расческа страдает и распутничает в твоих анархических космах. Горькую палинку ты называешь лекарством, стеклянная стопка всегда стоит у тебя в шкафу, и ты, вроде перебирая одежду, согреваешь себя: лечение же, а не тайное пьянство. Ты прощаешься со мной в прихожей, рука твоя лезет ко мне между ног. Внизу я, помахивая рукой, спиной двигаюсь к автобусной остановке, правой ладонью хлопаю себя по левой стороне груди; видя, как ты перегибаешься через перила балкона, я испытываю приступ боязни пустого пространства. Ты же коварно ухмыляешься: какой-то крохотный старикашка, на которого я, пятясь, наткнулся, грозит тебе зонтиком. В полдень я звоню тебе: что ты ела? «Супчик сварила», — говоришь ты и на этот раз; возможно, ты лишь затем варишь супчик, чтобы я не обманулся в своих ожиданиях. Ты переводишь какой-то нью-йоркский роман, в каждой фразе его — каламбур или шутка; тонкий, гордый, видимо, человек, отзываешься ты об авторе, «он порхает на цыпочках, не смея ступать всей ступней, чтобы не выглядеть пошлым». Вскоре после обеда я неожиданно прихожу домой, ты прыгаешь от радости; словно какой-нибудь лексикон, ты ведешь скрупулезный учет всем приятным сюрпризам, которые постигли тебя за двадцать лет. Из своей картотеки ты показываешь мне несколько любовных писем от претендентов на твою руку. Ты их получила сегодня: твое любимое хобби — ежедневно отвечать на брачные объявления. Один пожилой господин, замечаешь ты, интересуется не столько моей физической привлекательностью, сколько мейссенским фарфором и китайскими рисунками тушью, которые у тебя якобы есть. Сегодня тебе больше нравится играть на струнах мужской любви: ты — чувственный автомеханик и застенчивый ветеринар, и ты стремишься завоевать сердце учительницы пения, обожающей экскурсии на природу. Ты звонишь своему другу, актеру, безнадежному пьянице: пусть сегодня, в виде исключения, не пьет перед спектаклем, у нас на вечер билеты, и будет не очень красиво, если главный исполнитель, герой драмы, свалится в оркестровую яму. Я помогаю тебе надеть пальто, но зажимаю рукав, ты пытаешься дать мне в поддых, я убегаю, ты догоняешь и колотишь меня, куда попало, я хохочу. Мы вместе идем в гастроном, я готов покупать все, что вижу, ты сдерживаешь меня и тщательно выбираешь покупки; я — количество, ты — качество. С мясником ты споришь о хитроумных мясных приправах; он между делом ябедничает на меня, что я переходил улицу перед его лавкой, читая книгу и не глядя по сторонам. Его семейная жизнь для тебя — открытая книга, он посвящает тебя даже в перипетии своей незаконной любви. Едва ты кладешь трубку, телефон звонит снова, ты восстанавливаешь справедливость, работаешь сводней, улаживаешь конфликты, ты — свидетель браков, доверенное лицо супружеских измен, ты на несколько часов уступаешь квартиру тайным любовникам, ты даешь денег подруге, чтобы она могла на неделю уехать со своим беспутным другом; нет любви, которую ты бы не понимала, ты только мне высказываешь свое искреннее недоумение, чего это подруга твоя выбрала такого лысого типа с лопухами вместо ушей. Ты ведешь машину, моя рука лежит у тебя на коленях, твое отражение в ветровом стекле вдруг накладывается на сияющий после дождя каштан. Одна фраза у меня вышла плоской, и твое внимание улетает куда-то: еле заметным движением губ, бледной полуулыбкой, легкой, как пушинка, интонацией ты на четверть часа повергаешь меня в отчаяние позора и безнадежности. Мы оставляем машину за несколько домов от театра; люди на улице обращают на тебя внимание, потому что лицо твое улыбается изнутри, спрашивают какие-то пустяки, лишь бы обменяться с тобой парой слов; одна старушка ощупывает тебя, даже нюхает, хвалит твою красоту, а о себе говорит что-то грустное. Ты видишь все странные неудачи насквозь, у тебя нет никаких причин лгать хоть в чем-то, твое спокойное ясновидение, теплый грудной голос, бесчисленные уменьшительные суффиксы превращают стоящую перед тобой старушку в восторженную институтку. Войти в театр под руку с таким ароматным виском — само небесное блаженство. Когда свет в зале гаснет, я шепчусь или засыпаю, ты наслаждаешься искусством за нас двоих. После двух действий, предназначенных, видимо, для идиотов, ты наконец соглашаешься в антракте слинять. В вестибюле ты что-то такое делаешь, что тебя путают со знаменитой актрисой, но через тридцать секунд вся кипишь от злости: ведь та актриса совсем не так красива, как ты. Ты идешь рядом со мной, я поднимаю голову, расправляю плечи: ты — предмет моего тщеславия. То, что я выбрал тебя, было самой талантливой моей импровизацией; а до чего умной оказалась ты, что смогла по достоинству оценить мою идею. Меня, наверно, снова посадят, сказал я, когда предложил выйти за меня; знаю, сказала ты, это такая же твоя особенность, как большой нос. В революционном Парламенте меня настиг твой телефон, я как раз готовился везти в русское посольство письмо нашего правительства, объявляющее о разрыве. Ты умоляла меня лучше приехать домой: ты сварила вкуснейший фасолевый суп с говядиной. «Если тебя за это письмо повесят, учти: я порву с тобой все отношения». Сидя в ресторане, я толкую о мрачных перспективах международного положения, ты из вежливости грустнеешь, но кусочек мяса со свежей спаржей занимает твое внимание сильнее. Мы забегаем к друзьям, там целая компания, ты сначала молчишь, потом с непоседливым любопытством цепляешься к остальным, и вот уже говоришь ты одна. Избегая обобщений, охотно пользуешься притчами, предмет подаешь так, что нельзя не смеяться, берешь быка за рога, твоя улыбчивая прямота пробивает все стены. У тебя прекрасная дикция и четкий, без умничанья язык; стоит тебе заговорить, все смолкают и прислушиваются к тебе; ты меняешь общий настрой, пол под тобой прогибается, и собеседники соскальзывают к тебе; ты — весомее прочих, ты в центре, а прочие, относительно тебя, справа или слева. Приходит общее восхищение, но ты расставляешь всех по ранжиру, и того, кто ответил банально, без глубины, ты одним взглядом отлучаешь от двора и отправляешь в опалу. Я люблю твою хрупкую дерзость, сексуальную свежесть, привлекательность твоих мыслей; ты много хвастала, но хвастовство это не выглядело грубым, у тебя не было убогих задних мыслей, ты была приятна для моего вкуса. На улице я обнимаю тебя, ты удобна для моих рук, шея твоя мне вкусна, твои руки с длинными пальцами темпераментно объясняют что-то; ты желанна и героически порочна. Я был тем, кто живет с тобой, ты же — той, кто живет со мной.