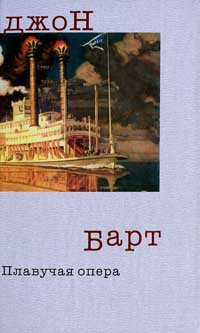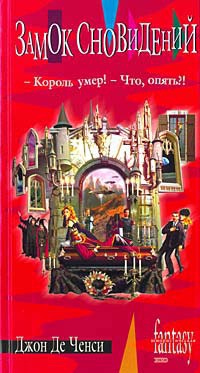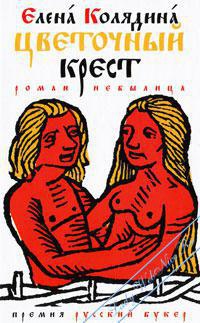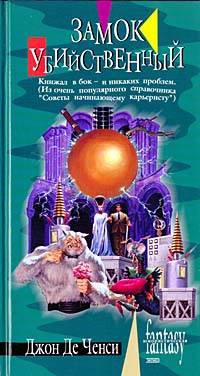Книга Химера - Джон Барт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но позвольте же мне рассказать вам историю моего любовного приключения с этим вторым типом историй: с рассказами в рассказах. Вы уже слышали ее начало: однажды случилось так, что тот студент развозил тележки с книгами среди стеллажей классической библиотеки Джонса Хопкинса и тайком читал ту фантастическую литературу, которую ему полагалось учитывать: "Тысяча и одну ночь", "Океан сказаний", "Панчатантру", "Метаморфозы", "Декамерон", "Пентамерон", "Гептамерон" и все остальное. Прошло немало лет, и этот студент обнаружил, что превратился и в рассказчика историй, и в их читателя, а в придачу - в профессора Университета штата Нью-Йорк в Баффало, одной из привилегий которого (пора была цветущая, середина 60-х) являлось наличие ассистента по исследовательской работе из числа выпускников. Как помог бы он мне ранее, в Пенн-стейт, когда я писал "Торговца дурманом"! Как помог бы он мне позднее, в Джонсе Хопкинсе, когда я писал роман "ПИСМЕНА"! Но так уж получилось - то, что я писал тогда, никаких особых изысканий не требовало.
По правде говоря, я решил поэтому довершить мое старое увлечение обрамленной литературой в меру основательным, если и не профессиональным, изучением этого жанра, которому на самом деле, казалось, было посвящено не слишком много исследований общего плана - помимо нескольких полезных компендиумов на немецком языке и взглядов искоса со стороны чосерианцев. Я не собирался ни публиковать на эту тему эссе, ни читать посвященный ей курс: просто поставить определенные вопросы о существующем корпусе этой литературы, дабы удовлетворить давнишнее любопытство и, возможно, открыть касательно этой старинной повествовательной условности что-нибудь такое, что могло бы стать импульсом для моей собственной истории: истории, которая, о чем бы она к тому же ни рассказывала, была бы также и об историях в историях в историях.
Я опять на секунду отвлекусь здесь, чтобы заметить: для Муз, кажется, не играет особой роли, призывает ли их писатель, как то делает Александр Солженицын, руководствуясь героическим желанием разоблачить и уничтожить деспотическую государственную систему, или, как у Флобера, из декадентского желания написать роман "ни о чем", - их решение петь или не петь основывается, похоже, на совсем других соображениях. Музы составляют куда менее ответственный - в сфере морали - комитет, нежели Шведская Академия.
Итак. Мы принялись допрашивать литературу, фантастическую и иную, - я имею в виду этого ассистента-исследователя, Муз и себя самого. Вот, вкратце, кое-какие из находок нашего неспешного и ненавязчивого допроса, а также кое-что из того, на что меня навели эти находки.
Прежде всего, как и можно было ожидать, мы нашли необходимым, составляя план нашего вопросника, разграничить категории обрамленной литературы. Первым нашим разграничением стало различие между случайными или необязательными рамками и рамками более или менее систематическими: на самом деле речь здесь идет не столько о разграничении, сколько о спектре или континууме. В первую категорию мы поместили такие незабываемые, но случайные истории в историях, как рассказ Пилар об убийстве фашистов в 10-й главе "По ком звонит колокол" Хемингуэя или рассказ Ивана о Великом Инквизиторе в 5-й главе 5-й книги "Братьев Карамазовых" у Достоевского, а также случайные романтические истории, которыми Сервантес прерывает приключения Дон Кихота, и, коли на то пошло, такие классические ретроспективы, как пересказ Одиссеем своей истории на текущий момент феакам (Книги IX-XII "Одиссеи") и аналогичный рассказ Энея Дидоне (Книги II и III "Энеиды"). Я полагаю, что большая часть литературы обрамляет какой-то случайный эпизод или припозднившееся его описание. Мы решили сосредоточить свое внимание на противоположном конце спектра: на историях, обрамляющих другие истории программным образом.
Здесь мы вскоре обнаружили, что производим дальнейшие таксонометрические разграничения, каковые я просто-напросто проиллюстрирую. Например, имеется то, что я воспринимаю как дантевски-чосеровский континуум: с одной стороны, истории вроде "Божественной комедии", где обрамление (блуждание Данте в сумрачном лесу и его возвращение через Ад, Чистилище и Рай) по крайней мере столь же броско и столь же драматически развито, как и истории, рассказываемые по ходу дела, большая часть которых в случае Данте является бессюжетными этическими примерами или развернутыми эпитафиями; с другой стороны, истории вроде чосеровских "Кентерберийских рассказов" или "Декамерона" Бокаччо, где обрамленные истории драматически наполнены, в то время как обрамляющая история - паломничество в Кентербери и из него; уединение десяти стремящихся избегнуть чумы 1348 года молодых флорентийцев и флорентиек - зачаточна, рудиментарна, неполна или драматургически статична. Теперь мне хочется, чтобы мы вели также учет сравнительно реалистичных обрамлений сравнительно фантастических историй- в общем-то, случай "Одиссеи" и "Ночей" - и наоборот. Но мы этого не сделали.
Далее, казалось полезным провести разграничение между обрамленными историями с единственным обрамлением - такими, как у Данте, Чосера, Бокаччо, и, на самом деле, почти во всей литературе обрамленных повествований на первом уровне обрамления - и существенно более редкими случаями серийности первичных рамок: как если бы, скажем, паломничество в Кентербери было лишь первым в серии связанных друг с другом основных чосеровских повествований, персонажи которых успевали рассказать несколько своих историй. Два эффектных примера этой более редкой разновидности доставляют санскритская эпопея одиннадцатого века "Океан сказаний", гигантское произведение большой структурной сложности, включающее в себя серию очень изощренных первичных рамок, и "Метаморфозы" Овидия, арматурой которым служит необычайно изысканная и изящная серия сцепленных друг с другом первичных рамочных рассказов.
Далее мы сочли нужным опросить каждый из нескольких сотен взятых нами на учет образчиков обрамленных или как бы обрамленных повествований на предмет того, включают ли они в себя только два уровня развития повествования - рассказы в рассказах, как у Данте и Бокаччо, - или три или более подобных уровня: рассказы в рассказах в рассказе и т. п. Как мы обнаружили, для восточной литературы нет ничего необычного в том, что персонажи из истории второго уровня рассказывают свои собственные истории. Там, где этот переход к третьему уровню случается более одного раза - например, в "Тысяче и одной ночи", - второй уровень повествования (истории Шахразады) становится серийным обрамлением внутри единственной рамки (история Шахразады). Там, где персонажи третьего уровня повествовательной погруженности более одного раза рассказывают дальнейшие истории, как, например, в "Панчатантре", мы сталкиваемся с историями, серийно обрамленными внутри серийных обрамлений внутри единственной рамки. "Панчатантра" на самом деле доходит до пятого уровня повествовательной погруженности, как и "Океан сказаний" - первичная рамка которого, как мы помним, и сама серийна. Действительно, "Океан сказаний" умудряется целиком поглотить всю "Панчатантру" в качестве одной из своих серийных рамок, а "Веталапанчавимсати" ("25 рассказов вампира"[13]) в качестве другой.
Подобная восточная усложненность необычна для западной литературы, если мы не будем обращать внимания на ту разновидность как бы обрамления, о которой я говорил ранее: призыв к музе и формулы вроде: "Это история о человеке, который…" и т. д. Но имеются и приятные исключения: Овидий перемещает свои "Метаморфозы" по меньшей мере по четырем уровням повествовательной погруженности - например, в книге VI[14], в которой по ходу продолжаемой Овидием истории Муза рассказывает Минерве историю состязания между Музами и дочерьми Пиера, и по ходу этой истории муза Каллиопа рассказывает перед судьями-нимфами историю умыкания Прозерпины, по ходу которой Аретуза рассказывает историю ее собственного умыкания: рассказ в рассказе в рассказе в рассказе. Причем устроено все так тонко, что этого толком не замечаешь, пока не наткнешься на перевод с его общепринятой английской пунктуацией и не увидишь такие странные скопления двойных и ординарных кавычек, как ' " ' "[15]. "Рукопись, найденная в Сарагосе", как указывает Цветан Тодоров, достигает по меньшей мере пятого уровня повествовательной погруженности: настоящее Саргассово море сказаний. Еще более замечательно, хотя и рудиментарно, обрамление платоновского "Пира". Все мы помним, что гости на пиру у Агафона по очереди держали речи или рассказывали истории о любви и что кульминацией стала речь Сократа, в которой он дал знаменитое описание Лестницы Любви, последнюю ступень которой, по его словам, ему разъяснила женщина по имени Диотима.