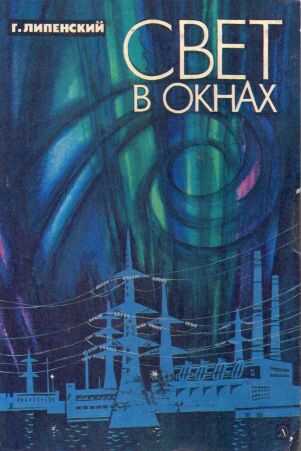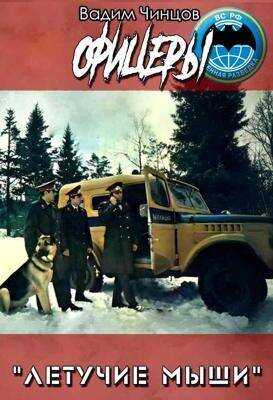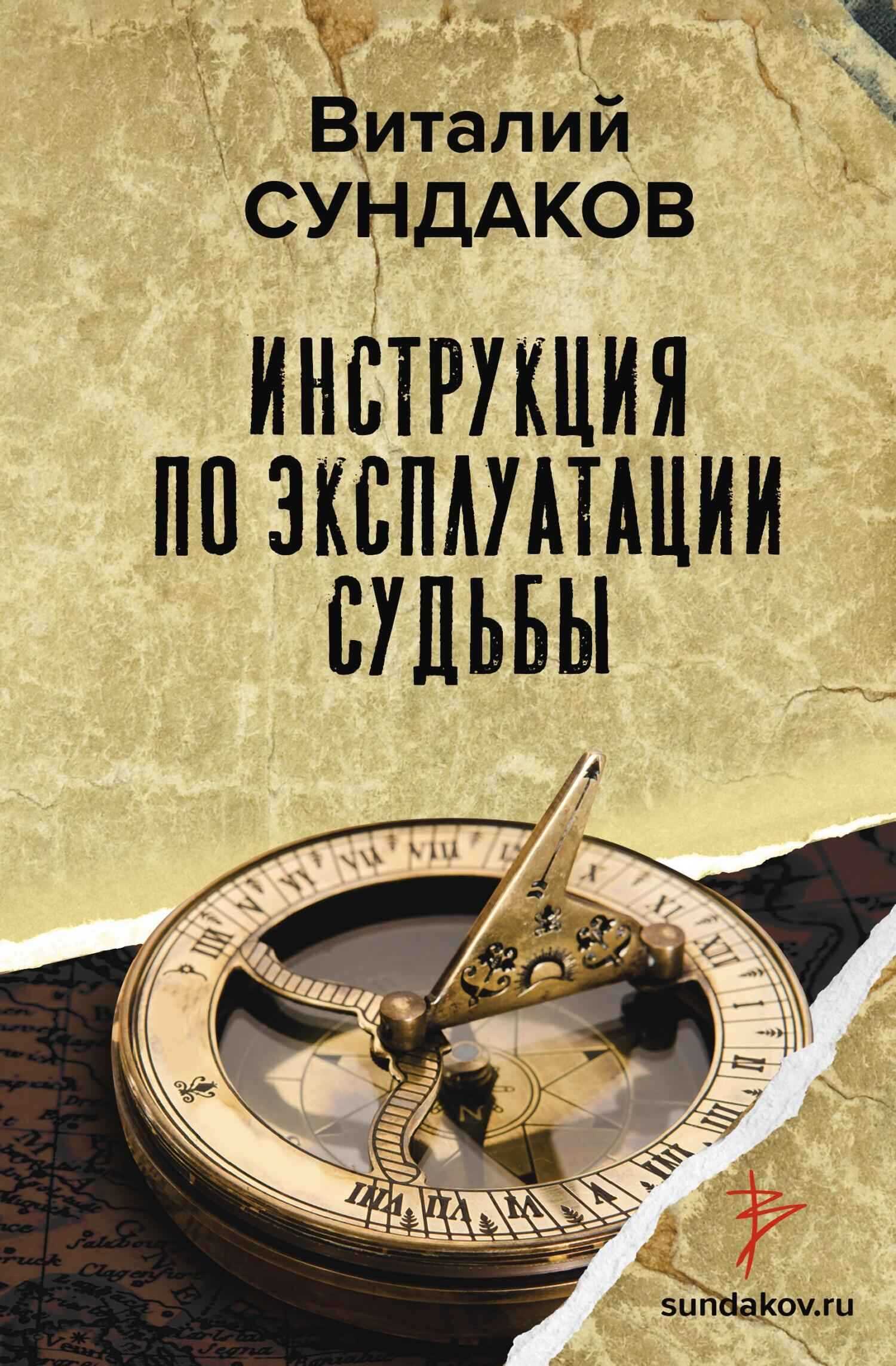Книга Двужильная Россия - Даниил Владимирович Фибих
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но вошли мы не в главный подъезд. Капитан завернул в боковой, совершенно безлюдный переулок, опытною рукою открыл одну из тяжелых дубовых дверей (за ней оказался часовой с винтовкой), и знаменитая Внутренняя тюрьма приняла меня в гостеприимные свои объятия.
На первый взгляд не было внутри ничего устрашающего. Солидное канцелярское, министерского типа учреждение: большой вестибюль с сетчатым, уходящим вверх колодцем; длинные, ярко освещенные электричеством коридоры, недавно окрашенные салатного или бирюзового цвета краской; ряды дверей кабинетов: только на каждом шагу часовые, на каждом шагу военные в голубых незабудочных фуражках. Да еще прилепленные к стенам боксы.
Пока происходило оформление, меня – новоприбывшего арестанта – запихали в один из таких боксов. «Бокс» в переводе с английского – ящик. Действительно, то был глухой, без окон, большой деревянный ящик с дверью, площадью в один квадратный метр, внутри освещенный, в котором можно было только стоять либо, подобрав ноги, сидеть на полу. Заглянул молодой лейтенант с листом бумаги в руке, проверил глазами, в точности ли совпадают внешние мои приметы с тем, что написано, заставил расписаться, снова исчез. Спустя некоторое время длинными коридорами с поворотами повели куда-то в подвальное помещение. «В камеру ведут!» Но нет, оформление не закончилось. Молчаливый фотограф в черном штатском костюме усадил в кресло перед тяжелым старомодным аппаратом с объективом, нацеленным точно пушка, поставил мне на колени табличку с каким-то многозначным номером, залез под черное покрывало и снял анфас и в профиль. Действовал быстро, привычно, не тратя лишних слов, лицо у него было как маска. Впрочем, у всех, кто встречался здесь по пути, были такие же лица-маски.
Потом фотограф велел приложить пальцы к намазанной на дощечке жирной черной краске и снял отпечатки всех моих пальцев. («Пальчики» – так называют заключенные эту процедуру.) Признаться, все это – анфас и профиль под номером, «пальчики» – морально было тягостно, но я утешал себя тем, что те же самые процедуры проходили в свое время и Ленин, и сам Сталин.
После фотографирования вновь заперли в боксе, однако ненадолго: явился другой надзиратель и повел к лифту. Бесшумно вознеслись на третий или четвертый этаж. Коридор уже не такой безобидный и приятный, как внизу, вереница дверей тюремного типа с номером и волчком для подглядывания. Прогуливаются, то и дело приникая к волчкам, дежурные надзиратели. Подошли к одной из камер, дежурняк впустил меня одного и закрыл за спиной дверь на ключ.
Большая светлая комната, похожая на студенческое общежитие, но широкое окно забрано железной решеткой, слепые стекла замазаны мелом. Вдоль голых стен койки под темными байковыми одеялами, посреди длинный, ничем не покрытый стол. В комнате четверо или пятеро мужчин в штатском. Лица у всех бледные, движения вялые, замедленные. Неживым спокойствием давно уже сидящих повеяло на меня от этих неизвестных людей. Кто они были?
Однако не успел я оглядеться, куда попал, не успел завязаться у нас разговор, как вновь появился мой проводник и с явно смущенным видом повел обратно к лифту. Опять заперли в боксе.
Очевидно, извлекли меня оттуда по ошибке и надзиратель заработал крепкий нагоняй за серьезное нарушение инструкции: ни в коем случае не сталкивать лицом к лицу заключенных в разных камерах.
Я сидел на корточках в своем боксе и прислушивался к тому, что делается за дверью, с покорной грустью думал: раньше чем завтра меня не покормят. Со вчерашнего дня во рту не было ни крошки. Продукты, полученные на дорогу сухим пайком – хлеб, сушеная рыба, были, понятно, съедены тут же. В Москву я приехал голодный как волк.
Внезапно дверь бокса открылась: на пороге стояли надзиратель и некто в белом халате. Белый халат держал подносик с алюминиевой миской. Я не поверил глазам: да, да, миска была полна каши. Поистине то белый ангел слетел ко мне с небес.
– Получайте! – сказал надзиратель.
Нет, не фронтовой пшенный бульон. Не тюремная баланда. Не жиденькая, пополам с водой размазня. То была густо сваренная, горячая, вкусная, божественная пшенная каша. Я пожирал ее, не поднимаясь с пола, и легкомысленно думал, что на таких харчах, пожалуй, можно сидеть во Внутренней тюрьме.
– Но я же не виноват! Я не виноват! – вдруг послышался за дверью истерический мужской голос. – Я совершенно не виноват!
– Тссс! – донеслось шипеньем разъяренной кобры. – Тссс!
Надзиратель был возмущен святотатственным нарушением царившей в здешних коридорах гробовой тишины.
– Клянусь вам, я не виноват! – продолжал вопить за дверью какой-то, очевидно только что доставленный сюда бедняга, совершенно обезумевший от ужаса. Крик внезапно оборвался, вновь сгустилась прежняя тяжелая тишина. Рот кляпом заткнули несчастному чудаку, что ли? Нашел кому свою невиновность доказывать – надзирателю!
Незаметно для себя в конце концов я заснул, уронив голову на поднятые колени. Наверное, сыграл роль и насытившийся, блаженно отяжелевший желудок. Когда разбудили и вывели из бокса во двор, где дожидался меня «черный ворон», было совсем темно. «Уж поздний вечер, – подумал я, залезая в машину – везли одного. – Значит, во Внутренней тюрьме не будут держать. Но куда теперь повезут?»
Машина мчалась и мчалась, бросая меня из стороны в сторону по опустелым, притихшим в этот поздний час московским улицам, но, странное дело, – вечернее небо, которое было видно в решетчатое оконце на двери, с каждой минутой все больше светлело, вместо того чтобы темнеть. Оказывается, был не вечер, как мне думалось, а утро следующего дня. Наступал рассвет. Я и не подозревал, что проспал, сидя в боксе на корточках, целую ночь! Наверное, на сытый желудок.
Все же довелось мне побывать и во Внутренней тюрьме. Произошло это спустя четыре года, когда меня привозили из Карлага в Москву для дополнительного следствия, вырвав из больницы, где я лежал с обмороженными ногами. Была сухая гангрена.
Потом вновь этапировали в тот же лагерь, но в другое отделение – отбывать оставшийся срок.
Но об этом после.
14
Принято думать, что тюрьмы похожи одна на другую как две капли воды. На самом деле каждая имеет свои характерные особенности. Я убедился в этом, пройдя в общей сложности восемь тюрем: две полевых, четыре московских и две пересыльных – Cвердловскую и Петропавловскую. Самой мрачной, подавляющей была, конечно, Лефортовская следственная военная тюрьма, в которой теперь я очутился. В годы Ежова звалась она «тюрьмой пыток».
Неизвестно, когда ее соорудили, при советской власти или в старое время, но построена она по последнему слову тюремной архитектуры. С вертолета она, вероятно, имеет форму креста – все четыре корпуса сходятся в