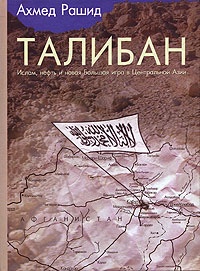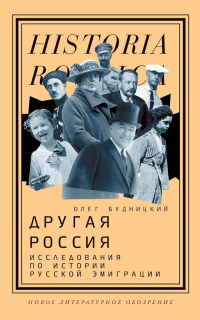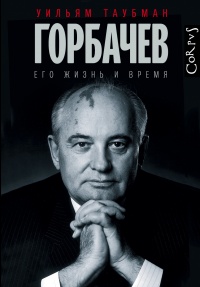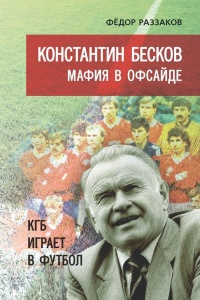Книга Разделенный город. Забвение в памяти Афин - Николь Лоро
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Если говорить об арбитраже, то в данном случае неважно, имеем ли мы в виду общегреческую практику обращения к частному арбитражу, когда категорический императив состоит в том, чтобы добиться большинства, или же полноценный институт типа публичных арбитров в Афинах[929]; главное заключается в том, что, подобно чужеземным судьям, вмешивающимся в качестве посредников при выходе из гражданской stásis[930], задача любого корпуса арбитров заключается прежде всего в том, чтобы примирить (diálysai) стороны[931].
Но связь с арбитражом становится более проблематичной, если мы попытаемся придать наконийскому институту эффективное функционирование. Мы не можем удовлетвориться утверждением, что таким образом в группе из пяти братьев действительно проводится различие между двумя изначальными «противниками» и тремя гражданами, занимающими позицию арбитров по отношению к первым. Это означало бы забыть, что весь гражданский корпус в целом, а значит, и граждане, считающиеся нейтральными, – те, кого текст характеризует как «все оставшиеся граждане» (toùs loipoùs polítas pántas: ст. 23–24), – будет поделен на группы из пяти, что (даже если вообразить, как это сделала я, желание предотвратить некую общую конфликтность) исключает любой реальный арбитраж: в самом деле, какими арбитрами могут быть те, кто должен разбирать свои собственные распри? И поскольку благодаря обобщению процедуры весь город оказывается распределенным по ряду арбитражных жюри, сам город и становится арбитром самого себя, каковым он может быть лишь фиктивно[932].
Из чего следует, что эта фигура может пониматься только метафорически[933]: да, возможно, это арбитры, но арбитры символические, привлеченные лишь для того, чтобы в действительности ничего не судить, поскольку, как надеются, в городе воцарится согласие. Поэтому, хотя исключение любого реального родства внутри этих групп и позаимствовано из гражданского правила, относящегося к судебной сфере, именно сильнодействующей метафоре единокровности приходится прикрывать собой проблематичную метафору арбитража, а основная деятельность этих братств, каждое из которых является микрокосмом города, как мы уже знаем, будет заключаться в ежегодном отмечании праздника предков и Гомонойи (hoi polītai pántes heortazóntō par’ allálois katà tàs adelphothetías: ст. 32–33).
То, что в этом декрете о примирении последнее слово остается за праздником, вероятно, может нас удивить. Но все и впрямь выглядит так, будто простого упоминания примирительной сходки граждан после stásis достаточно для того, чтобы перейти к праздничной встрече, на что в «Менексене» намекает Платон, когда восхваляет то, как «радостно и по-семейственному» в 403 году «смешались» между собой афиняне из Пирея и из города[934], и еще более поразительным выглядит официальный жест, с помощью которого, придавая этому празднику периодичность регулярного отмечания, наконийцы хотели вписать его в гражданское время. Ибо для города, пребывающего в мире, гражданское время является повторяющимся, бессобытийным и мнящимся безразрывным временем всегда обновляющегося aeí, в соответствии с которым магистраты бесконечно сменяют друг друга во главе города, – именно так мы и будем интерпретировать положение, предписывающее всем последующим магистратам каждый год отмечать этот праздник (hai katà pódas[935] arkhaì pāsai… kath’ eniautón: ст. 29–30). Вполне вероятно, что граждане Наконе полагали, что в свободной от páthos длительности гражданского времени повторения праздника будет достаточно, чтобы отделить воспоминание о примирении от памяти о конфликте, стирая прошлое под настоящим церемонии.
Преуспели они в этом или нет – история, которая нам не известна, и тщетными будут любые предположения на ее счет, тем более что надпись из Наконе нас заинтересовала только потому, что она представляет собой весьма примечательный образец гражданского примирения. Помимо необычайной оркестровки, которой в ней подвергается тема братства, и даже помимо очевидного проекта превратить в tabula rasa прошлое, чтобы отныне подчинить себе время без происшествий, это примирение, на самом деле, заслуживает такого внимания из‐за продуманного двойного отношения, которое оно поддерживает с судебными процедурами – потому что для того, чтобы объявить об исключении реального родства, оно обращается к законам о трибуналах, и особенно потому, что гражданская сплоченность проводится через метафору, имплицитную, но сильнодействующую, арбитража.
Тем самым этот декрет безвестного сицилийского городка ведет нас обратно к Афинам: действительно, в нем я вижу возможность пролить свет на примирение 403 года в одном из его конститутивных измерений – столь же важном, сколь мало исследованном до этого момента на нашем пути, – возвращаясь к афинскому запрету подавать в суд для того, чтобы удовлетворить требования памяти, восстающей против забвения прошлого.
О правосудии как разделении[936]
Война является общей, а справедливость – распрей [díkēn érin]…
Сможем ли мы на этот раз наконец попасть в Афины 403 года? Прежде чем перейти к катастрофе конца века, давайте все же ненадолго задержимся в Афинах V века, все еще сильных своей империей и своим господством над Грецией, – в Афинах, где, если поверить памфлетной прозе олигархов, сутяжническая страсть граждан не знала никакой меры[937]. Мы не слишком удивимся тому, что масштабы этого явления гипетрофируются комедией, всегда и по определению готовой критиковать демократию: именно так в «Осах» Аристофана старик Филоклеон, маньяк тяжб, которого собственный сын хочет излечить, снабжая случаями для разбирательства не выходя из дома, считает, что тем самым реализуется одно очень древнее предсказание: