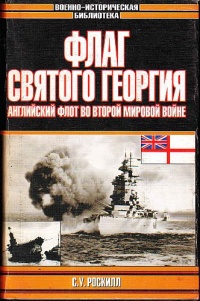Книга Георгий Иванов - Вадим Крейд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Благодаря «Розам» оформилась «парижская нота» – литературный феномен нового типа. Он не укладывается в такие привычные и удобные понятия, как «литературное течение» или «литературное направление». В иных условиях, на родной почве из этого конгломерата настроений, вкусов традиций действительно могло бы возникнуть литературное направление. Но в самом задании «парижской ноты» присутствовали утонченность и недоговоренность, избегавшие манифестов и безразличные к популярности. Нота утвердилась благодаря многочисленным статьям Георгия Адамовича, но поэтическая музыка заимствована из «Роз».
Как это случилось? На Монпарнасе и в кругу связанных с ним «Чисел» возникло, проявилось, в разговорах уточнилось новое мироощущение. Сначала оно осязательно, но безымянно присутствовало и требовало вдумчивой формы для своего воплощения. Исходя из музыки русской культуры, Борис Поплавский назвал его «парижской нотой». Он отдал в редакцию «Чисел» статью, имевшую значительный резонанс. Статья называлась «О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции». В ней Поплавский высказал несколько парадоксальных суждений — например, о том, что «быть благополучным — греховно и мистически неприлично». В этих словах услышали выпад против успеха Набокова, удачливого и благополучного, по сравнению с «монпарнасцами». Увидели также и размежевание с такого рода литературой, которая столь блестяще Набоковым была представлена. «Литературной лавочки здесь мало, — писал Поплавский, — "товарец" здесь не идет, как бы того ни хотели иные писатели с тиражами». Лучшее для писателя — это чувство своей личной гибели. «Христос сиянием своего погибания озарил мир». В стихах важнее всего дух музыки, а с духом музыки согласуется только переживание своей гибели, тогда как благополучное самосохранение антимузыкально. И далее Поплавский делал вывод: «Существует только одна парижская школа, одна метафизическая нота… торжественная, светлая и безнадежная». Но именно таковы по своему настроению «Розы» — торжественные, светлые и безнадежные.
Вначале преобладало простое настроение – еще не рефлексия, не мысль. Проецированное вовне, на окружающую действительность это настроение могло показаться важной приметой современности, ее специфической атмосферой. К осмыслению пришли не сразу. Ранним и убедительнейшим отражением этой атмосферы явились «Розы» с их сдержанно-печальным лиризмом. «Какая-то размолвка с жизнью», – сказал об этом лиризме Адамович. Вслед за Г. Ивановым поэты «ноты» хотели освободить каждую свою строку от риторики, от красот, от метафоричности, стремились к простоте речи. Наследие Лермонтова вдохновляло их чаще, чем наследие Пушкина. Другого предтечу они видели в Иннокентии Анненском. Суть «ноты» состояла в том, что она воспринималась лишь как атмосфера, а не школа, не литературный кружок, не какое-либо общество со своей рациональной программой. Не дай Бог поэту находиться в литературе, говорили последователи «ноты».
В числе предшественников, кроме Лермонтова и Анненского, называли имя Георгия Иванова. Ему следовали, но собственно в «ноту» никто из современников его не включал, разве что значительно позднее некоторые литературоведы по недоразумению или по недомыслию. Г. Иванов влиял на «ноту», оставаясь шире ее, а саму «ноту», по удачному выражению современника, можно понимать как комментарий к стихам Георгия Иванова. Последний поэт «парижской ноты» Игорь Владимирович Чиннов однажды заметил в разговоре: «Георгий Иванов был всегда не совсем парижская нота. Он выделялся, он был всегда сам по себе». Даже в совершенно новой обстановке – в послевоенное время, – когда «парижская нота» еще продолжала звучать, например, в стихах Георгия Адамовича, Лидии Червинской, Игоря Чиннова, читатели видели Георгия Иванова хотя и в том же «поэтическом лагере», но стоящим особняком. Это восприятие вдумчиво выразил старейший по возрасту поэт второй эмиграции Николай Федорович Бернер: «В Георгии Иванове сосредоточена вся квинтэссенция как литературных положительных, так и отрицательных эстетических эмоций эмиграции первых лет рассеяния… Только в нем еще сильна черта большого творческого наследия и неиссякаемого лиризма. И конечно, в своем творчестве он как бы перерастает эмиграционный период, входя в пантеон классической русской поэзии». Бернер, вероятно, был первым, кто в печати назвал Георгия Иванова русским классиком XX века.
Оценили Георгия Иванова и как крупного критика, его статьи обращали на себя внимание и более того — с ними считались. Например, философ Владимир Николаевич Ильин, относивший к вершинам этого рода литературы статьи Владислава Ходасевича, писал: «Только разве Бунин и Георгий Иванов могут иногда становиться вровень с Ходасевичем в деле критики и литературоведения». Именно в те годы, о которых говорит Ильин, то есть в межвоенный период, в годы сотрудничества в «Числах», талант Иванова–критика проявился особенно остро. Его статьи и очерки печатались не только в «Числах», но и в «Современных записках», и в газетах «Дни», «Сегодня», «Последние новости».
В юности сильнейшее влияние на Георгия Иванова оказали статьи Гумилёва и живое общение с ним. Но склонность к литературной критике проявилась раньше — еще до прихода в Цех поэтов и в «Гиперборей». К тому времени он успел напечататься как критик в журнале «Весна» и в газете «Нижегородец». Статьи были слишком юношеские. Та зрелость, которая так рано проявилась в стихах, никак не отразилась в статьях. Оглядываясь на свои первые шаги, он вспоминал с самоиронией о написанной в семнадцатилетнем возрасте статье, доказывающей, что популярный тогда в России бельгийский драматург Метерлинк — пошляк и ничтожество. Было в том что-то от эпатажа, что-то от вкусов Игоря Северянина, поэта значительного, но в деле критической мысли невинного. А ведь критика требует мысли. Николай Гумилёв при первом знакомстве с Георгием Ивановым этой способности в нем не разглядел: «Он не мыслит образами, я очень боюсь, что он никак не мыслит. Но ему хочется говорить о том, что он видит, и ему нравится самое искусство речи». В том же отзыве 1912 года Гумилёв предсказал Г. Иванову будущее писателя-прозаика: ему «захочется большего размаха, прозаического повествования».
Предсказание сбылось, что же касается умения мыслить, то через год-другой Гумилёв свое мнение изменил. Из всех возможных кандидатов — а таковых было немало — именно Георгия Иванова он выбрал своим заместителем в литературно-критическом отделе «Аполлона». И после закрытия «Аполлона» случалось Г. Иванову писать критические статьи: для газеты «Воля России», журнала «Дом искусств», альманаха «Цех поэзии». Писал и предисловия к книгам. В литературной критике он оставался деятельным (с некоторыми перерывами) всю свою творческую жизнь…
Мы до сих пор не имеем его критического наследия, собранного в одном томе с исчерпывающей или хотя бы возможной полнотой. Получилось бы чтение занимательное. Предстала бы перед нами картина русской литературы не в тех формах и красках, к которым мы так привыкли. Воображаемая книга, которую мысленно я вижу в подробностях, получилась бы совсем особенной, если собрать в ней не только критические статьи и рецензии, но и вообще все сохранившиеся в воспоминаниях, в письмах, иногда и в стихах отыскиваемые его высказывания о литературе. Перед нами предстал бы умный собеседник, богатый опытом, осмысленно и памятливо проживший в русской литературе полстолетия и всегда сохранявший живейший интерес к писательским судьбам современников. Существенно и то, что ему на жизненном пути встретились очень многие литераторы лично. Их диапазон широк – от поколения родившихся еще в царствование Александра II до тех, кто родился при Ленине. Как писатель, мемуарист, критик и литературовед (слово, которого он не любил) оставил он свои размышления и высказывания о XVIII веке, о Пушкине, Тютчеве, Лермонтове, Достоевском, Щедрине, Писемском, о поэтах поколения, предшествующего декадентам (о К. Р. и Фофанове, например), о самих декадентах, начиная с полузабытого Александра Добролюбова, о символистах, о своих старших и младших современниках — от Хлебникова до Ивана Елагина. Так что именной указатель к воображаемой книге насчитывал бы сотни имен.