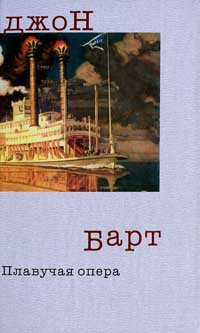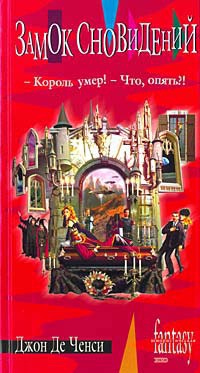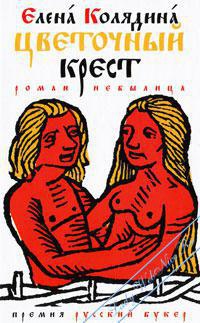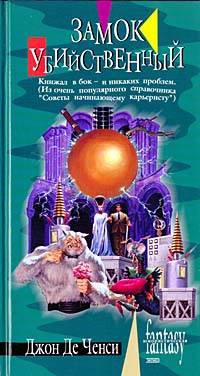Книга Химера - Джон Барт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но это, как говорит Шахразада, и т. д.
Почетно оказаться приглашенным на эту Вторую международную конференцию по фантастике следом за Исааком Башевисом Зингером. Мистера Зингера один из критиков назвал модернистом в облачении традиционалиста; я не против ни маски, ни того, что под нею, и иногда подозреваю, что это мой собственный, только вывернутый наизнанку случай. Наподобие прилежного приверженца каббалы, Зингер считает Господа Бога своего рода романистом, а мир - его романом в процессе написания; как собрат-рассказчик, он способен тем самым оценить гениальные ходы великого Автора и со снисхождением, если не с пониманием, отнестись к Его промахам. Как сказал Гораций, иногда дремлет даже добрый Гомер. Ко всему прочему, история еще не окончена: кто знает, какие сюжетные выверты приберег для развязки у себя в рукаве Автор?
Я согласен и с этой позицией; я уже как-то замечал, что считаю Всемогущего недурным романистом - с поправкой на то, что он - реалист.
Именно подобные замечания, как я понимаю, и привели миссис Барт и меня в Бока Ратон, чтобы я мог поговорить с вами об одной стандартной для фантастической литературы схеме: о рассказах в рассказах. Я начал с того, что упомянул двух других рассказчиков: Исаака Башевиса Зингера и Господа Бога. Надеюсь, что они оба не обессудят, если я прервусь в этом или каком-то другом месте, чтобы рассказать вам одну небольшую историю.
В один прекрасный день - было это в 1971 году - я написал историю о младшей сестре Шахразады, Дуньязаде, которая просидела в изножье царского ложа 1001 ночь (так гласит арабская версия), наблюдая, как ее сестра и царь занимаются любовью, и слушая все эти развлекательные, чаще всего фантастические, старые истории. По моей версии, Шахразаде в ее изнурительном повествовательном предприятии помогает этакий американский джинн второй половины двадцатого века: со своей стороны, он всегда был влюблен в нее и вдохновлен ее положением и теперь, по своего рода соглашению между ними, приспособился снабжать ее из повествовательного будущего теми историями из повествовательного прошлого, которые оказались нужны ей, чтобы выпутаться из опасной ситуации.
Само собой разумеется, что мой джинн черпает эти истории из своего экземпляра "Тысячи и одной ночи". И, в награду за его бескорыстный поступок, помощь джинна Шахразаде решает и его собственные проблемы, каковые стоят и перед ней, и вообще перед любым рассказчиком: что делать со следующей, а потом и еще с одной историей? Как не свернуть себе повествовательную шею? Следующей историей джинна, как мы узнаем к концу моей истории, будет история его эпизода с Шахразадой.
Как я хочу, чтобы эта фантазия оказалась реальностью: чтобы я мог быть этим джинном, мог встретиться и разговаривать с талантливой, мудрой и прекрасной Шахразадой.
Отчасти это и в самом деле реальность: Дуньязада, рассказчица моей истории, описывая первое явление джинна своей сестре, говорит: "Годы назад, когда он, будучи студентом, без гроша в кармане, развозил от стеллажа к стеллажу в библиотеке своего университета тележки с книгами, чтобы немного подзаработать на оплату своего обучения, его при первом же прочтении рассказов, которыми она отвлекала царя Шахрияра, обуяла страсть к Шахразаде… могучая и неослабевающая…". Шахразада всегда была для меня тем же, что и Диотима для Сократа в "Пире"; ее имя смотрит на меня с карточки 3х5 над моим письменным столом - как для того, чтобы приободрять, когда меня прорабатывают критики, поскольку с момента нашей первой встречи я никогда не сомневался, что она - моя истинная сестра, так и, наоборот, для того, чтобы приструнить меня, когда мои истории переоценивают, поскольку я никогда не сомневался, что эта моя истинная сестра неизмеримо меня превосходит.
В двух пунктах торжественное заявление джинна тем не менее без какого бы то ни было злого умысла искажает правду. Во-первых, Шахразада - не единственное имя на моей карточке 3х5: помогают ей поддержать меня на поверхности и не занестись слишком высоко мои главные покровители и старшие братья - Одиссей, Дон Кихот и Гекльберри Финн, по отношению к которым я испытываю подобные же чувства. И во-вторых, соблазняли меня и увлекали всегда не сами истории Шахразады, а их рассказчица и необыкновенные обстоятельства, в которых они рассказывались: другими словами, характер и ситуация Шахразады и повествовательная условность обрамляющей истории.
Об этой ситуации мне уже случалось писать: о значении того, что ночей было 1001, а не, скажем, 101 или 2002; о сексуальном ритуале перед рассказом истории; об ужасном, но плодотворном отношении между рассказчицей и ее аудиторией; об изначальном ультиматуме типа "публика-или-смерть" и его привычном следствии (после того как царь на 1002-й день наградил Шахразаду подобающим ее положению формальным супружеством и заказал роскошно переплетенное издание ее опуса, она, очевидно, никогда больше не рассказывала никаких историй); о решающей роли прикорнувшей у ложа маленькой Дуньязады; о еще более интригующей и символической проблеме, с которой в свою первую брачную ночь придется столкнуться уже ей, и т. д. Здесь я не буду более распространяться на эти темы.
Давайте приглядимся вместо этого к такому явлению, как рассказ в рассказе. Мой современник, романист Джон Гарднер, отличает то, что он называет "первичной литературой" и определяет как литературу о жизни, от "вторичной литературы", каковую он определяет как литературу о литературе. Есть несколько мотивов, по которым можно поставить это разграничение под сомнение, особенно когда его изобретатель превращает его в орудие оценочных суждений или даже в этические категории. Давайте для начала просто вспомним, что явление обрамленного повествования - то есть рассказов в рассказах, что всегда до некоторой степени подразумевает и рассказы о рассказах и даже рассказы об их рассказывании,-то это-древнее, повсеместное и постоянное явление, почти столь же старое и разнообразное, подозреваю, как и сам повествовательный импульс.
Возможно, здесь самое место рассмотреть некоторые элементарные утверждения о реальности и фантазии, которые, я уверен, дотошно обсуждались на различных заседаниях этой конференции. Людвиг Витгенштейн в своем "Логико-философском трактате" определяет мир (то есть реальность) как "все то, что имеет место". Каббалисты, послужившие неисчерпаемым источником литературных метафор таким разным авторам, как Исаак Башевис Зингер и Хорхе Луис Борхес, утверждают, что эта реальность, наша реальность, является текстом Бога, его исполненным значения литературным вымыслом, - мне думается, что м-р Зингер мог бы даже сказать: приведенной в исполнение фантазией Бога. Артур Шопенгауэр, к значению которого для Борхеса я вскоре вернусь, идет еще дальше и заявляет, что наша реальность, независимо от того, является она вымыслом Бога или нет,- это наше представление, своего рода наш вымысел: что отношения, категории и понятия, такие как различение, пространство и время, бытие и небытие, - наши, а не бесшовно-целостной природы. Восточная философия дразнит подобными парадоксами; их основным моментом является то, что Реальность с большой буквы Р - в большей или меньшей степени, но строго говоря - не что иное, как общая нам фантазия.