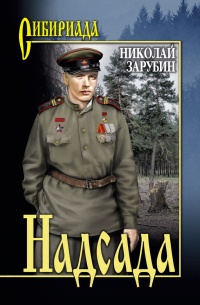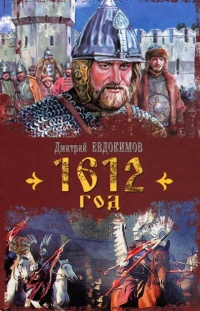Книга Духов день - Николай Зарубин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Что бросил-то?
– Заколебали. Смотрят, как на белую ворону и чуть что: коллектив… коллектив… Коллектив решил… Коллектив постановил… А в коллективе-то этом и работников-то стоящих осталось три с половиной человека. Дядя Витя Панченко да Володя Сундук. Да еще тетя Маша – уборщица. Вкалывают, потому что как согнули спину до войны, так по сей день не могут разогнуть. Остальные – только трепаться да денег побольше огребать.
– Но деньги-то еще никому не помешали.
– Так их, ты знаешь, заработать надо, а работать не все хотят. А я и работал и требовал, чтобы по совести платили. Из принципа. В расценках, ты знаешь, меня обдурить трудно, так что придумали: стали гонять то вагоны разгружать, то на полевые работы – дескать, все ездят – и ты должен. В конце концов я уперся: «Чего, – говорю, – вы меня гоняете, ведь лучше меня никто мое дело не сделает, значит, брак будете гнать в мое отсутствие». – «А это, – посмеиваются, – не твоя забота». – «Так что же, – посмеиваюсь и я, – частная лавочка здесь или государственное предприятие?..» В общем, крутили и так и сяк, ну и начали разными приказами допекать: то выговор по административной линии, то премию снизят, то еще чего. Противно… А в конце месяца я прямо чуть ли не в герои попадаю – план горит: «Ты, Юрченко, давай… Ты, Юрченко, не подведи…»
– А по-другому строить свои отношения нельзя?
– Ты знаешь, пробовал, но, видно, не могу по-другому…
Василий слышал, что Иван лет пять назад пытался поступить в университет на юридический, но что-то у него там не получилось, а что – не знал. Раньше спросить об этом значило нарваться на очередные обиды, к тому же никак не мог представить его в роли служителя правосудия. Теперь вроде можно было. Теперь слушал его, глядел на него – и душу застилала нежность: «Брательник, брательник, сплошные нелады и несклады в твоей жизни, не приучили нас родители к кривизне, но они и не думали, как им жить, потому что некогда было думать. Они работали. Работали дяди Вити и тети Маши. Такое время было – нехватки и недостатки в семье, на производстве, в стране. Ты вот мои обноски донашивал. Они – на станках, выпущенных еще «во времена оны» чудеса творили, страна, в свою очередь, выезжала на лошадках, на допотопных колесухах. Когда же наступил сбой? Когда пришло равнодушие, когда перестали верить – и народилось целое поколение, которое, приняв от своих отцов ничем не замутненную эстафету трудового энтузиазма и самоотверженности, оказалось не в силах достойно нести эту эстафету, а начало приспосабливаться, пристраиваться? И выплюнуло таких, как ты, – вопросозадавателей, отщепенцев, неудачников?..
– Ты, я как-то слышал, собирался на юридический?
Иван покосился на Василия, как показалось, своими прежними нездоровыми глазами – бывают такие глаза у людей, как бывают у человека нездоровыми сердце, желудок, печень, – потянулся к пачке сигарет. Закурил и заговорил тихо, без надрыва. Издалека:
– Ты знаешь, мы с тобой действительно как два слесаря – все о работе да о работе. Видел я таких: встретятся за бутылкой, вмажут по стакану – и сказать друг другу нечего. Дообщаются до того, что начнут спорить – где и как гайку закрутить. Пыль столбом.
– Что же делать, если и это – жизнь.
– Может, и так. Только кроме работы должно быть у человека еще что-то. Мечта, что ли… Не знаю, в общем, как сказать, но чувствую и всегда чувствовал: это должно быть. Я вот себя возьму. Как бы ни знал секреты своего фрезерного дела, какое бы удовольствие от своей работы ни получал, всегда остается во мне несогласная со всем, что делаю, часть, всегда мне этого мало. Всегда остается стремление усовершенствовать и станок свой, и свои инструменты, и самого себя. И чтобы до всего самому дойти. Ты же знаешь, у бати нашего весь слесарный инструмент был по его руке, весь свой инструмент он за многие годы работы сделал сам. А когда погиб, свои же работники поленились к матери сходить за ключами от верстака: распилили замок, который он сам сделал, и растащили тот инструмент. Думали, видно, секрет батиного мастерства – в его инструменте. Урвут – и с ним уравняются. А место ему было, может быть, только в музее. Не научили, ты знаешь, уважению к старым мастерам.
– Кто не научил-то?
– Да хоть кто. Механик хоть того же дядю Витю Панченко тыкает. А кто он перед ним? Мелюзга. Взяли себе за правило – тыкать. Место свое надо знать. Какой он начальник, если с людьми разговаривать не умеет? А на него глядя, другие тыкают. Тут как-то давай меня на цеховом профсоюзном собрании разбирать за то, что не выполнил их очередную дурь – в колхоз не поехал. Так один дядя Витя и вступился: «Чего, – говорит, – взялись парня донимать? Чем, – говорит, – он вам не угодил? Юрченко, – говорит, – настоящей рабочей кости. Я с его отцом, почитай, тридцать лет бок о бок работал, так парень – весь в него, нисколько не уступит. Вы, – говорит, – сами без роду-племени, а сживаете со свету представителя рабочей династии». Так и сказал: представителя. Хотели, ты знаешь, прогул мне влепить, да никто не проголосовал. Послушали-таки дядю Витю.
– Вот видишь, не так уж все плохо, есть совесть у людей.
– Есть, конечно, но совесть без профессиональной чести – ноль, каждый ведь знает, чего сам стоит, а так, когда все серенькие, проще самому спрятаться, затеряться среди себе подобных. Дурочку гнать. Вот и ушел я в одну хитрую организацию стропалем. Зарплата – та же, ткнули – пошел. Сказали – сделал.
– И не зовут обратно?
Иван усмехнулся, махнул рукой, встал и направился в куть. Слышно было, как загремел крышкой от фляги – пил воду. Уже оттуда:
– Зовут, ты знаешь. Сегодня встретил механика. «Возвращайся, – говорит, – Юрченко. Со спецами трудно. Разряд дадим». Черта лысого им! Я, конечно, вернусь: привык, ты знаешь, мозгами шевелить. Но для начала покуражусь. Надоело, ты знаешь, одно и то же талдычить: майна – вира, майна – вира… – И возвратившись из кути, добавил: – Все вроде довольны, а ты места себе не можешь найти.
Разговор приостановился. За окном взлаял вдруг пес Малый и тут же низко завыл, словно прорвалась бессознательно накопленная черная тоска по воле. Натужный крик собачьей души достал Ивана. Он дернулся к окну, постучал кулаком по переплету рамы.
– Да замолчи ты! – крикнул. Сел, задумавшись и отшатнувшись от Василия, от стола, по краям которого они сидели, от всего, что было в доме, что они видели, чего касались много-много раз.
Василий не стал его трогать. И не надо было его трогать. Не надо было срывать человека с той высоты, на какую вознесся его дух. Не надо было вырывать из той дали, в какую унесли его мысли. Где очищалась его душа, и выравнивался ход его сердца. Где обретала силу та несогласная в нем часть, властно призывающая не идти на компромисс, с той жизнью, в которой все вертелось и все вертелись и которая была противопоказана его природе, ибо в ней он терялся и терял себя.
До Василия вдруг дошло, что Ивану невозможно быть другим. Невозможно во имя наивысшей на земле правды. Что те, с кем он не согласен, только и ждут того, чтобы он стал другим, дабы беспрепятственно творить зло. Собственное извращенное представление о правильном устройстве жизни превратить в норму. И тогда можно будет напрочь порушить нечто главное, без чего нет и не может быть самого человека.