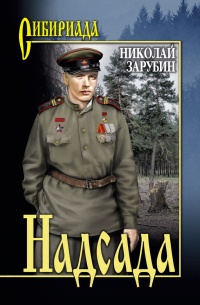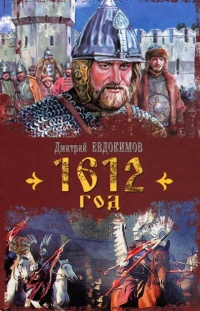Книга Духов день - Николай Зарубин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Разговоры эти ему осточертели. Он сознавал, что пытается сунуть утопающему соломинку, а тот с готовностью за нее хватается. И получалось: вопросы Ивана были, как бы обращены к нему самому, ведь это он, Василий, чем больше живет, тем чаще перешагивает через множество «почему», что не ему поучать Ивана, как жить. Свое несбывшееся, сломанное, оставленное где-то позади, без чего тоскливо по ночам, что казалось забытым, кинутым, вырванным из сердца, – в минуты эти снова становилось главным, снова вырастало до своих подлинных размеров. Но не обмануть время, не вернуться назад, не настигнуть собственное, не давшееся в руки счастье. Не перескочить в обратном направлении через тысячи «почему?», где мало-помалу растерял он свои идеалы, обрубил топором примиренчества острые, наиболее ранимые края собственной совести, и превратилась она в некоего удобного для жизни болванчика. Обрубил, но не убил. Ивану дано было поднимать его, упавшего на все четыре кости, снова чувствовать в себе силы для сопротивления всяческой кривде. И, как и юности, начинало хотеться трудов непосильных, чувств искренних, отношений незамутненных, вечеров несказанных, встреч нежданных – всего того, на что он утратил моральное право, но на что продолжал претендовать. Иван ставил его лицом к лицу с тем, прошлым, каким Василий вступал в жизнь и словно бы убеждал, что это к нему не пристала жизнь, это Василий, а не Иван отступил от приличествующей настоящему человеку единственно правильной линии в поведении, поступках, принятии решений.
Гордится зрелость приобретенным опытом, а нередко и цена-то ей – грош. Нет в ней полноты ощущений, преданности безоглядной, порывов безотчетных, а только страх: абы чего не вышло, абы чего не произошло, абы не растревожить себя, не растрясти, не взволновать, не уронить в грязь перед такими же, как и сам. Десятки тысяч так называемых зрелых людей, перешагнувших за тридцать – семейных и одиноких, – ходят по земле, топчутся в очередях, ищут интеллектуальных и неинтеллектуальных развлечений, приобретают тряпки, выезжают за город, делают по утрам гимнастику, но страшатся бессонницы, холодных простыней и гулких ночей.
Нет, не мог он быть Ивану ни советчиком, ни наставником, ни примером. Никто не мог быть для него примером: то, что в характере Василия было заложено природой лишь в общих чертах, в Иване было нормой. Потому и работу, и свои отношения с Томкой, родственниками пытался приладить к себе, к своему разумению и толкованию основы основ бытия, когда по заслугам – и честь, на силу чувства – чувство ответное, когда из общей стаи тебя не изгоняют только за то, что ты отличаешься от всех прочих – цветом своего оперения.
И зачем было Ивану менять профессию? Фрезерное дело он действительно постиг, прочитав о нем всю или почти всю имеющуюся специальную литературу, да еще и при таком учителе, каким был их отец. Не в профессии дело, а в складывающихся отношениях на производстве.
Как-то в одной из центральных газет Василий обратил внимание на статью директора крупного завода, в которой говорилось о профессиональной чести рабочего, об ответственности перед временем, о воспитании в человеке чувства коллективизма. Очень правильно говорилось, и от того, что говорилось слишком правильно, с самого начала не вызывало доверия. Василий усомнился в собственном пока безотчетном осознании липовых достоинств статьи и заставил себя дочитать ее. «В современном обществе, – излагал автор, – каждый индивидуум уже по своей сути должен быть коллективистом. Вливаясь в рабочую семью, он отдает все силы любимому делу, а значит – заводу, стране».
«Эк хватил… Кругло и безоговорочно. А сам-то индивидуум – что? Как сбросишь со счетов всяческие симпатии и антипатии, откровенность одних и замкнутость других, узость интересов иных начальников и широту интересов иных работяг, которые в силу своей подчиненности вечно ходят в нелюбимых, обиженных, обойденных. А коль так, то хочешь или не хочешь – наступай на горло собственной песне, приспосабливайся и приноравливайся. Не нравится – ищи другое место под солнцем, и чем дальше, тем больше будет впереди тебя поспевать дурная слава неудачника, отщепенца и, в конечном итоге, во всех отношениях неудобного для общества индивидуума. С такими установками вряд ли ты сам, товарищ директор, начинал как личность, скорей всего, как приспособленец, не раз и не два склонил голову, прежде чем полез в гору. Да и сейчас склоняешь перед всевозможными инстанциями, от коих зависишь и ты сам, и процветание твоего производства, а в конечном итоге – благоденствие страны. Нет, иные требуются меры, иные оценочные установки. Человека надо видеть в каждом индивидууме со всеми его болевыми точками, отсюда и начинай перепляс…»
Дочитал и думал о брате. Растратил он себя, износил в себе потребность совершенствоваться, оказавшись в безлюдье, и теперь кладет силы на выяснение отношений. Сомкнулся круг, и мечется теперь, не знает, где и как разорвать эту роковую для него черту. И у него, у Василия, свой круг. У каждого человека свой круг. Вырвался из одного – попал в другой: круг обязанностей, круг знакомств, круг взаимоотношений. И твое счастье, если обитаешь в своем: можешь реализовать дарованные тебе природой силы. А если не можешь – найди достойную звания человека отдушину. Попробуй жить для людей. Все в этом мире должно делаться для людей…
Тягостная процедура похорон – спектакль древний, и, сколько бы ни сменялось поколений, каждый живущий безошибочно находит в нем свое место, пока и сам не станет однажды его безмолвным главным действующим лицом.
Гроб вынесли на улицу и установили перед воротами дома. Друзья, знакомые, сочувствующие, просто зрители расступились, и фотограф с приличествующей случаю физиономией занял свое место. Близкие, согласно родственным связям с покойным, сомкнулись у его тела. Снова все пришли в движение, вперед вынесли венки, и вот уже четверо мужчин, оторвав от табуреток дорогой этому дому груз и выравнивая шаг, свернули на главную дорогу – вдоль улицы.
Никогда, как бы многотрудна ни была работа, не видел Василий таких озабоченных лиц, какие бывают у людей, несущих гроб, потому что любая другая делается в угоду и на потребу жизни. Любая другая, даже изготовление домовины и рытье могилы, оплачивается, если не звонкой монетой, то обязательно поллитровкой, словом благодарности, ибо человек всегда может отойти и поглядеть: ладно ли сработали его руки и может ли он принять полагающуюся дань за свой труд. Любая другая не ставит его так близко со всеразрушающей смертью и не заставляет так полно чувствовать бренность самого существования, оканчивающегося торжеством небытия где-нибудь в укромном уголке на погосте, который также имеет свой век. Люди сплачиваются на время похорон словно бы для того, чтобы сказать друг другу: «Смерть пришла и вырвала одного из нас, но не истребила в нас тягу к жизни, мы никогда не дадим ей повода для торжества».
«Поразительно, – думал Василий, – что эти же люди, а может, и не эти, но все равно – люди, с которыми жил и работал Иван, не могли принять его живого».
В свой прошлый приезд в Нулут Василий нашел брата до удивления спокойным. Они говорили долго и тихо. Обо всем, о чем никогда прежде не говорили.
– Ты знаешь, производство-то я свое бросил.