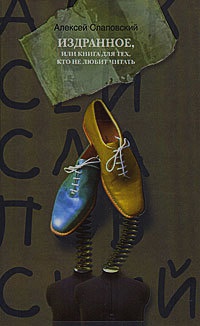Книга Страна изобилия - Фрэнсис Спаффорд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Скажите, пожалуйста, — заставила себя произнести Галина, — что это такое, чему меня должны были научить?
— Вот девки пошли, — Инна Олеговна не скрывала удовлетворения. — Вам, девкам, все на тарелочке подносят.
— Но откуда же мне…
— Сюда, — с этими словами сердитая тетка подтолкнула ее в первую дверь слева, в палату с белыми стенами, где стояло шесть коек, четыре из которых уже были заняты. Галина до того обрадовалась, что ее не послали в палату, где орали — из-за шума та представлялась ей какой-то психушкой, жутким местом, где все идет вразнос, — что ухватилась за обнадеживающие признаки порядка в этой: большие часы, к которым были обращены все койки, стоящие рядами, стопка чистого белья на тележке у двери; правда, тут тоже раздавались стоны, крики, кряхтение, женщины на койках боролись с тем, что шевелилось у них внутри, то вздымаясь, то опадая, или лежали с расширенными глазами, в поту, ожидая следующего раунда.
— Здравствуйте, — сказала Галина.
Никто не ответил. Она села на край пустой койки, развернула тело, опустила на подушки. Прямо над ее головой висел большой светильник — широкая белая миска, усеянная странными черными оспинами. Сердитая тетка швырнула ей на ноги тонкое серое одеяло.
— Значит, так, — сказала она. — Слушай внимательно. Когда придет схватка, дыши глубже. Вдыхать через нос, выдыхать через рот. Если совсем плохо будет, живот поглаживать круговыми движениями. Время схваток засекать по часам. Когда пойдут через минуту или чаще, значит, вторая фаза начинается. Будешь себя правильно вести, не так больно будет.
— И все? Больше вы мне ничего сказать не можете? — спросила Галина.
— Все лучше, чем ничего, — ответила сердитая тетка.
— Да вы не переживайте, — сказала, когда медсестра ушла, женщина справа от Галины — худая, за тридцать, с кудряшками, прилипшими ко лбу. — Ничего особенного вы не пропустили.
— А вы ходили на занятия?
— Да, но там было только про то, что надо много гулять и все такое, про то, как детское питание готовить, а потом в конце пять минут говорили про то, что боль при родах — это выдумки врачей из капиталистических стран, а на самом деле это только сигналы из подкорки головного мозга, которые можно отключить, если стимулировать кору. Или наоборот.
— Что это значит? Я не понимаю.
— Я тоже, — сказала женщина.
— А я понимаю, — сказала соседка с другой стороны, крепкая с виду девчонка-подросток. — Это значит, что обезболивающего нам не дадут. — И она начала смеяться, но тут подошла следующая схватка. — Ой, бля, — вскрикнула она. — Ну вот, опять. Ах ты, сволочь, уговорил меня, зачем я только позволила? Ах ты, пидорас. Ты. Мудак. Такой.
— Неужели обязательно так выражаться? — сказал Галина. — Так грубо.
— Ах ты, сука, воображаешь тут еще, — сквозь сжатые зубы проговорила девчонка. — Погоди, сейчас узнаешь.
Девчонка оказалась права. Галина действительно ждала, честно засекая промежутки между схватками — пять минут, четыре минуты, — довольно неестественно пытаясь вдыхать через нос и выдыхать через рот, пока работали ее новые мышцы, и это, видимо, помогало вроде бы. Но через некоторое время, долгое или короткое, неприятные ощущения изменились по качеству, а как следствие, и по количеству, и наконец в ее глубоких вдохах стали появляться дыры, как от ножа, она ловила воздух ртом, вдохи застревали у нее в горле слабенькими прыжками, трепетанием, а все, что ниже, вздымалось, ей неподвластное. Теперь она чувствовала уже не сжатие — ее давили, стирали в порошок. Теперь внутри не тянуло, а рвало. Ей вспомнилось то, что делают мясники на огромных складах, как они выворачивают суставы, отрывая их от кости под углом, как разрываются сухожилия, мясные волокна вытягиваются красными нитями. А сердитая тетка ничего не делала, чтобы помочь. Когда она вернулась в первый раз, Галина жадно наблюдала за ней, думая, что ей дадут проглотить таблетку или сделают укол, но та принесла лишь миску с водой и протерла лбы всем, кто был в палате, быстро, как будто столы вытирала.
Галине за всю ее сознательную жизнь не приходилось испытывать настоящей боли, физического ощущения, по интенсивности сравнимого с такими неприятными вещами, как горе или унижение, и открытие ее поразило. В конце каждой схватки она понимала, что с радостью перенесла бы заново любое из ужасных чувств, какие у нее когда-либо возникали, лишь бы только это сию же секунду кончилось. Она готова была вернуться к тому разговору с Володей, состоявшемуся, когда она пришла домой из “Сокольников”. Она готова была лежать в темноте, прикрыв рукой глаз, на мокрой подушке, слушая ржание телевизора за стенкой. Никакого сравнения. Но поменяться ей никто не предлагал. Наступала следующая секунда, а за ней еще и еще, несмотря на то что боль, наполнявшая каждую, не позволяла представить себе, что она хоть как-то сможет вынести продолжение, эту остроту, это лезвие, разрезающее ткани, эту молнию, пронизывающую нервы, но она все же выносила, опять и опять, и следующая секунда опять вставала перед ней во всей своей невозможности. Ей не хотелось гладить себя по животу или по спине. Ей не хотелось ни к чему прикасаться там, внизу, где ее тело перестало быть ее, где возникло какое-то ужасное недоразумение с размерами и объемами, и возможностью вытолкнуть предмет размером с городской автобус через узкое отверстие в плоти. Ей хотелось наблюдать, находясь по ту сторону стекла. Но тут ее ждало другое открытие. Глупо было предполагать, что какая-то отстраненная часть ее сможет наблюдать за тем, как тело занимается своими делами. Схватки засосали ее туда, в кровь и плоть. Пока они продолжались, не существовало ничего, кроме ее тела. Только оно. Она целиком превращалась в тело.
Теперь она следила за часами, подталкивая глазами секундную стрелку, словно тонкая красная палочка, ползущая по циферблату, напрямую управляла ее чувствами. Все остальное в палате потеряло смысл. Секунды тащились, цеплялись за эту стрелку, проходящую мимо; они были коварными водными пространствами, липкими гектарами пустырей, мокрыми ртами, — но она продолжала двигаться. Она шла вперед. Больше ничего не помогало. Время, отмеряемое часовой и минутной стрелками, уходило. Уходили люди. Федор казался далеким, как звезды; ребенка невозможно было себе представить. Женщина с койки справа исчезла, потом и девчонка — ее, бьющуюся в каких-то конвульсиях, укатили по коридору. Это не имело никакого значения. Реальными были лишь она сама и секундная стрелка. Потому что, если схватиться за нее и продержаться два полных оборота — каждый черный круг по циферблату означал еще раз пройти через то, что было хуже горя и унижения, — то в конце, в последнюю секунду схватки, стрелка прибудет на место, и боль схлынет, быстро, как вода в дырявой кружке, и она ненадолго опять станет собой, узнаваемой, тяжело дышащей и дрожащей, и впереди у нее будет настоящая роскошь — передышка. Постепенно передышки становились все короче: три круга секундной стрелки, два, полтора. Но больше ухватиться было не за что, и эти секунды придавали ей сил, которых хватало ровно на то, чтобы сжать зубы и не позволять себе эти ужасные стоны, несущиеся с остальных коек. Это ей удавалось — едва-едва. Им с секундной стрелкой.