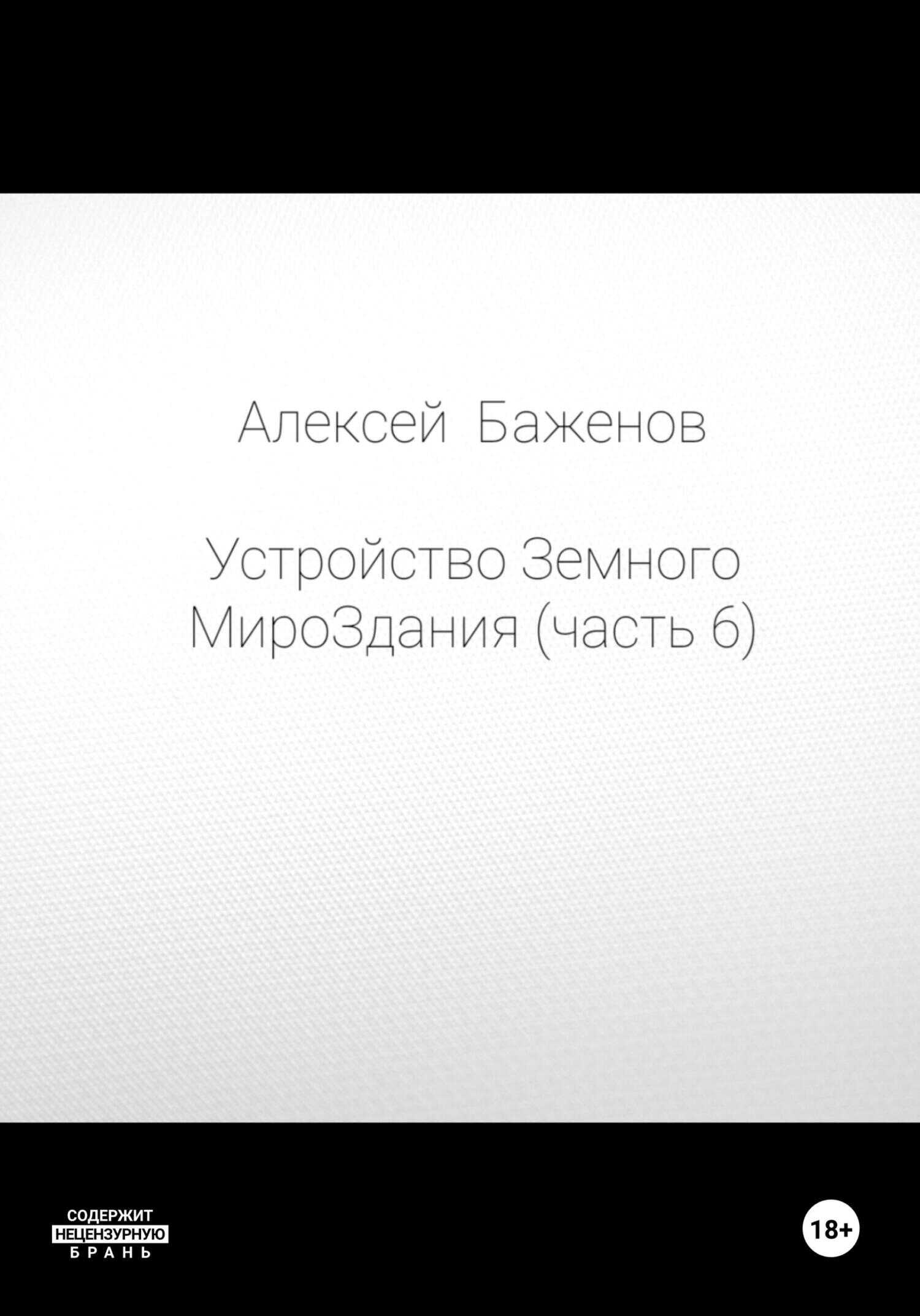Книга Бархатная кибитка - Павел Викторович Пепперштейн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я не стану воспроизводить свои рассуждения 1997 года, не стану предпринимать биоаналитическое исследование медиума и сомнамбулы (надо было лучше следить за блокнотом), вместо этого спрошу лишь об одном: где располагается точка пересечения этих двух фигур (если они вообще пересекаются)?
Конечно, можно сказать, что эта точка располагается в таинственной сфере конституционных особенностей. Вполне вероятно, что я был в один период жизни сомнамбулой, а в другой период медиумом в силу одних и тех же конституционных причин, но при этом в недрах того спиритического периода конца семидесятых мне иногда казалось, что загадочные информационные сгустки, откликавшиеся на имена Руссо, Кэрролл, Кандинский, Клее, Набоков, Ричард, Розалия Криг (прабабушка моего отчима) и на другие имена, – что все они были некими бесплотными сомнамбулами, которых пробуждал к диалогу голос взывающего. Теперь мне уже так не кажется. Теперь я вообще ничего не думаю на этот счет. Никаких суждений, никаких даже гипотез. Никакого теоретизирования по сути. Простой легкомысленный рассказ в духе разговоров за табльдотом.
Глава тридцать шестая
Охотник
Воображая себе возможный спор между спиритом-апологетом и спиритом-скептиком (такой диспут, на моей памяти, никогда не состоялся, разве что у меня в голове), должен сказать следующее, как бы от лица апологета: я не был знаком с текстами Руссо тогда, я вообще ничего о нем не знал, кроме смутных сведений о том, что он принадлежал эпохе Просвещения и как-то повлиял на Великую французскую революцию. Но впоследствии, когда со спиритизмом уже было покончено, я иногда скучал по беседам с остроумным Жан-Жаком. Поэтому в какой-то момент я выудил из родительского книжного шкафа его «Исповедь» в русском переводе и прочитал ее. Чтение это изумило меня – в процессе чтения меня не покидало совершенно достоверное ощущение, что я читаю текст, написанный очень хорошо знакомым мне человеком: я узнавал все его шуточки, особый вкус его веселости, легкость повадок и притворных сожалений, узнавал все обороты и развороты мысли – все это казалось мне глубоко и пронзительно знакомым. Так читают роман, вышедший из-под пера близкого друга. Само отношение автора к словам и словесным сочетаниям, его насмешливо-сентиментальная лексика – все это до дрожи напоминало мне те годы, когда пальцы мои зависали над блюдцем.
На это спирит-скептик в моей голове спешит заметить: да, это так, но при этом наш Жан-Жак явно не знал французского языка. Пару раз оказывались за спиритическим столом люди, которые этот язык знали, и они пытались общаться с Жэ-Жэ по-французски, но галльский писатель отвечал весьма уклончивыми и ускользающими фразами, продолжая упорно изъясняться исключительно на русском. Создавалось впечатление, что он не вполне понимает вопросы, которые ему задавали по-французски.
В те времена эта подозрительная «русскость» нашего друга не казалась мне странной. «Он же Руссо, – думал я, – значит, русский, получается». Поскольку этот дух существовал среди букв, причем среди букв русского алфавита, его русскость, снабженная галльской игривостью, казалась естественной. По всей видимости, он был подключен исключительно к русскоязычному литфонду, включая русскоязычные переводы всех иностранных авторов.
В доказательство вышесказанного поведаю следующий поразительный эпизод. Как-то раз, будучи с мамой в Коктебеле (и живя, как тогда говорили, «на Литфонде», то есть в Коктебельском доме творчества писателей), мы попросили Жан-Жака рассказать нам сказку. Жан-Жак почему-то рассказал нам сказку о бароне Мюнхгаузене.
Это была сказка про охотника, из разряда охотничьих баек. Я ухитрялся записывать за Жан-Жаком. Это требовало определенной сноровки: левую руку я держал над блюдцем, а правой записывал слово за словом. Сейчас не помню, какую именно из охотничьих баек выдумщика-барона пересказал нам Руссо. Про вывернутую наизнанку лису? Про уток, пронзенных раскаленным шомполом и зажарившихся прямо в воздухе? Про вишневую косточку, которой барон выстрелил в оленя, после чего у того меж рогов выросло вишневое дерево? Конечно, мы с мамой знали эти истории (кто ж их не знает?), но помнили их достаточно смутно, в общих чертах.
Каково же было наше изумление, когда, вернувшись из Коктебеля в Москву, мы разыскали у нас дома книжку историй о Мюнхгаузене и сличили два текста: текст, напечатанный в книге, и текст наших записей, сделанный «с голоса» Руссо (в данном случае, конечно, не с голоса, а «с блюдца»). Эти два текста оказались идентичны. То есть они совпадали не просто по содержанию – они совпадали слово в слово! Руссо не просто рассказал нам одну из известных историй о Мюнхгаузене, но воспроизвел дословно именно тот перевод на русский текста Распе, который содержался в принадлежащей нам книжке.
Что он нам этим хотел сказать? Возможно, вы поднимете меня на смех за то, что я склонен приписывать некие намерения такому неопознанному явлению, как наш спиритический Жан-Жак. Но я себя на смех не подниму, с Вашего разрешения. И почему он выбрал именно Мюнхгаузена? И почему именно охотничья байка?
Полагаю, что это была глубокомысленная шутка в его духе. Таким образом (вполне ненавязчиво, тактично, не без иронии) он сообщал нам нечто украдкой – нечто значимое, касающееся его собственной природы: природы интеллектуального трикстера, непосредственно сообщающегося с архивом русскоязычного литфонда – сеанс ведь происходил на территории Литфонда, как я уже сказал. Он дословно воспроизвел текст, как если бы он прочитал его с листа, – текст, содержащийся в наших сознаниях в виде лишь смазанного воспоминания. Текст про охотника. В русском языке слово «охотник» обладает двойным смыслом. Охотник как hunter, промышляющий дичь, и охотник как желающий, как хотящий. Мюнхгаузен – враль, он демонстрирует волю к фантазму. Он есть охотник за фантазмами. Он выворачивает лису наизнанку: так обнаруживает свою изнанку желающий и желанный текст.
Глава тридцать седьмая
Сестры Берг
В каждом русском ландшафте должны, по идее, обитать некие три сестры. Обитали они и в хвойном ландшафте дачного поселка Челюскинская. Непосредственно за спиной утопического здания дома творчества теплился идиллический садик за низкорослым заборчиком, а в садике, как серебряный рубль в ладошке оборванца, сидела избушка с верандочкой, где летними вечерами раскочегаривали классический самовар на еловых шишках. Это был домик директора дома творчества «Челюскинская». Звали директора Рейнгольд Генрихович Берг. Он происходил из русских поволжских немцев. Во время войны с Третьим Рейхом поволжских немцев выслали в Сибирь в качестве народа, этнически связанного с неприятелем, а значит, неблагонадежного. Семья Берга также подверглась репрессиям, да и сам он провел юные годы в сталинских лагерях. Это не сломило стойкого поволжского немца, и он сделался художником. Был он добр той особенной немецкой добротой, которая встречается только у немцев, если уж судьба сделала их добрыми. Лев Толстой виртуозно описал эту доброту в образе Карла Иваныча, его детского гувернера. Встречаются добрые немцы и у Лескова – можно вспомнить почти святого германца из его повести «Островитяне». Набокову тоже удавалось описание немецкой доброты, что особенно выгодно выглядит на фоне его общей германофобии. Короче, добрый немец – значимый герой в русской литературе.
Обликом своим Рейнгольд Генрихович напоминал Санта-Клауса, но не пузатого и низкорослого, а, напротив, вполне рослого, поджарого и крепкого. Он обладал черно-седой бородой и такими же усами, наливными щеками с зимним румянцем, обладал также блестящими выпуклыми стеклами очков. Ну и конечно, как в сказках, были у этого доброго человека три дочери, три сестры – Оля, Маша и Надя. Ну и еще была у него жена Ингрид Николаевна – мачеха двум старшим его дочерям и мать младшей. Опять же, как в сказках, при добром и мягкосердечном отце была она злой мачехой, да и в целом отличалась злобностью и стервозностью, хотя в молодости, возможно, была недурна собой.
Эти три сестры мощно впечатались в мое детское сознание. Старшая Оля была красавицей строгой, с повелительным голосом, с повадками царицы, но не капризной и взбалмошной царицы, а очень дисциплинированной, собранной и отчасти суровой. Я не любил ее, точнее, побаивался, так как по просьбе моего