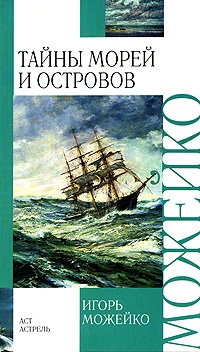Книга Гана - Алена Морнштайнова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мне сказали, что я вела себя аморально, потому что забеременела, не будучи замужем. И спросили, знаю ли я хотя бы, кто отец ребенка?
— Конечно, знаю, — кричала я. — Лео меня любит, он женится на мне.
— Какой еще Лео?
— Лео Гросс. Тот, что работает на кухне.
Я спорила, билась, убеждала их, но доктор только что-то писал в своих бумажках и даже на меня не смотрел.
— Мы отправим это в комендатуру, — сказал он. — Там решат.
Когда мой мальчик родился, он был так мал, что поместился бы у меня на ладонях. Но он никогда в них не лежал, я только увидела, как сестра уносит его прочь. Он не плакал, не шевелился, но я знаю, что он был еще жив. Сестра вернулась с пустыми руками, наклонилась ко мне, погладила по плечу и прошептала, что они спасли меня от эшелонов.
— Беременность — верный путь на восток, девочка.
Мне было все равно.
Иногда я представляю себе душу как белую сахарную голову, от которой откалывают сахар. С каждым ужасом, который происходит в твоей жизни, от нее отваливается кусок. Так она уменьшается и уменьшается, пока однажды от нее совсем ничего не остается. От моей души к тому времени отбили уже очень много, но она все еще держалась.
В тот день, когда у меня родился сын, которому я хотела дать имя Лео, от сахарной головки отломился такой огромный кусок, что она, по сути, раскололась надвое. И вторая часть упала с высоты и разбилась на тысячу осколков, когда я узнала, что, пока я в больнице приходила в себя после родов, Лео Гросс получил повестку на первый осенний эшелон и его увезли на восток.
Сестра в больнице ошиблась, роды не спасли меня от депортации. Узкую полоску бумаги со своим имением я получила из рук нашей старшей по бараку на следующий же день вечером.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Мезиржичи
Поначалу Роза ко мне приходила каждый день. Первое время она брала с собой Миру, но потом догадалась, что меня раздражает детский плач, и оставляла малышку дома. Да, плач мне мешал, но еще больше мне действовал на нервы ласковый взгляд Розиных глаз, когда она прижимала Миру к себе и успокаивала ее. Матери с маленькими детьми с платформы отправлялись прямо в газовую камеру, проносилось у меня в голове, и я брела к себе в спальню.
Роза пыталась меня втянуть обратно в жизнь, заставляла выходить на улицу, ловить на себе любопытные взгляды и выслушивать рассуждения о том, что в городе во время войны тоже жилось несладко. Еды не хватало, говорили они, но сами же отводили взгляд. Каждую секунду люди боялись, что за ними придут, а потом эти ужасные бомбардировки в конце — но нельзя поддаваться унынию. Вы ведь даже не представляете, как вам вообще-то повезло: вам в лагере не грозили бомбардировки союзников! Этот кошмар, когда было страшно за своих детей, вы даже не можете себе представить. Нужно, в конце концов, приходить в себя, повторяли они мне, собраться, перестать себя жалеть и жить дальше. Бла-бла-бла…
Я молчала, и меня стали избегать.
Тело мое тоже так и не выздоровело, но боль, которая накатывала при каждом резком движении, перемене погоды или волнении, терзала меня не так мучительно, как приступы ужаса. Мне было незачем жить, но и умереть не получалось.
Роза долго пыталась вытянуть меня из пустоты. Она не понимала, что ей это не удастся, потому что от меня осталась одна оболочка. Души, которая делает человека человеком, во мне не было. Она унеслась с моими родными на восток, заблудилась в улочках Терезинского гетто, увязла в теплушке, растворилась в лагерной грязи и сгорела в печах Аушвица.
Через некоторое время меня начали водить по докторам. Мужчины в белых халатах только качали головами и говорили о терпении. Потом все чаще стало звучать слово лечебница, и больше меня в кабинет врача было не затащить, даже когда Роза говорила со мной таким же ласковым голосом, каким утешала свою дочку.
Сама же я знала единственный способ пережить очередной день. Минута за минутой, шаг за шагом. Встать, одеться, позавтракать, убрать за собой. Монотонные действия меня успокаивали. Занимали руки, приглушали мысли, не отбрасывали меня назад за колючую проволоку и не подпускали ко мне голоса с другого берега.
Так я прожила следующие годы. Роза поняла, что я никогда не стану снова старшей сестрой, скорее еще одним ребенком, которому нужна любовь. Я вбирала в себя ее чувства, хоть и не могла ответить тем же, и была благодарна Розе, не умея выразить это словами.
В Розиной семье родилась еще одна девочка, а потом мальчик, Роза по-прежнему часто меня навещала, но я в их новое жилище в высоком доме над рекой приходила только изредка. Карел Карасек на дух меня не переносил, да и я его не жаловала, к тому же этот холодный дом напоминал мне о временах, когда я поднималась по деревянной лестнице навестить пани Караскову, а вечером возвращалась по улицам города в квартиру, которая тогда еще была для меня родным домом.
Мир менялся, но меня перемены почти не касались. Пан Урбанек снова работал на заводе, потому что писчебумажный магазин был национализирован. Мне было все равно, а Роза сердилась. Государство, в отличие от пана Урбанека, не платило мне никакой аренды, теперь приходилось выживать на ту жалкую пенсию, которую выделили мне чиновники, когда выяснилось, что я ни на что не гожусь. Впрочем, что человеку нужно?
Немного еды, а зимой теплая одежда.
И стимул, чтобы жить дальше.
Я старалась, я правда старалась. Я старалась целых девять лет. Мне хотелось вынырнуть из глубины воспоминаний на поверхность и вдохнуть полной грудью. Я хотела сделать это ради Розы, но не получалось. Я завязла в болоте прошлого.
А