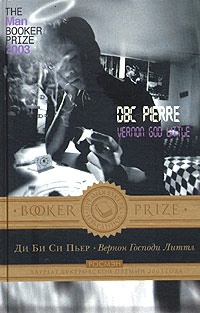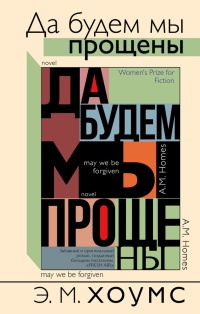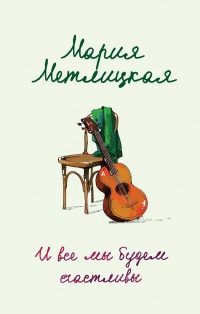Книга Профессор Криминале - Малькольм Брэдбери
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но вдруг пампа иссякла. И распахнулись просторные проспекты великолепного, величавого города. Воскресное утро, безлюдный час. На живописной авениде Девятого Июля царил покой. Парки полнились зеленью тропических растений, воплями изумрудных попугаев. Повсюду высились гигантские мраморные памятники — конкистадорам и генералиссимусам, Колумбу, Бельграно, Сан-Мартину, Дню независимости 1810 года. В кафе я заказал кофе с рогаликами, чтоб скрасить первые минуты пребывания в незнакомом часовом поясе, и настроение поднялось. Я припомнил, что Шандор Холло называл Будапешт Буэнос-Айресом Европы. В таком случае Буэнос-Айрес — Будапешт Латинской Америки, европейский город, выстроенный в неимоверной дали от европейских берегов. Изысканная раннемодернистская стать его министерств и синагог, рынков, банков, жилых небоскребов словно бы предназначалась другому ландшафту, иным краям, но пустила корни именно тут, на незнакомой земле, среди экзотических зарослей; и стилистика Европы, сокровенные сны ее культуры властно налегли на эту действительность, чье прошлое утрачено, чей нрав безалаберен, своеволен, горяч.
Не прошло недели, как я влюбился в Буэнос-Айрес. Конечно, я успел увидеть лишь малую часть двенадцатимиллионной столицы, разметавшейся на подкладке гигантского плато. Но площади ее светлы, сады прекрасны, рестораны уютны, вина превосходны. Город только прикидывался обычным, таким, как все. Едва тебе хотелось что-то купить, из-под маски вылезал экономический разнобой. Накрапывал дождь — проступало отсутствие водостоков. Духовная жизнь горожан не стыковалась с неистовством пампы, мир живописцев и поэтов — с миром гаучо, персонажей широкоплечих, каблукастых, гордошляпых, напроломных; то был город, где университетские питомцы подчинялись морали и логике завоевателей, генералов, головорезов, скандалистов. Образованные противостояли нищенствующим, престижные кварталы — заштатным, картинные галереи — моторизованным полчищам солдат.
Книжнику — а вы уже знаете, что я истинный книжник — казалось, что эта реальность загодя описана Борхесом: вымысел, удовлетворяющий аргентинской самоидентичности и, следовательно, имеющий право отождествиться с этой самоидентичностью; фрагментарные наблюдения, умозрительно вогнанные в целостность. В кафетерии рядом с гостиницей, где я поселился, дряхлые господинчики в пиджаках парижского кроя отплясывали танго и распевали слезливые мелодии ушедших лет на радость супругам мышиной масти и подругам закатной страсти; впоследствии мне объяснили, что это и есть пресловутые кровавые генералы. В центральном парке высилась Национальная библиотека Борхеса — недостроенная, точно предсмертный, недописанный рассказ. Точно чья-то на полдороге брошенная греза.
Присутствие Борхеса ощущалось повсюду. Особенно — на книжной ярмарке, в палаточном городище у железнодорожного полотна, что вместил сотни стендов и тыщи томов из дальних земель. Аргентина, которая разворачивалась предо мной как книга, одновременно была родиной книгочеев; полчища их что ни день прочесывали ярмарку до последнего павильона: бизнесмены и домохозяйки, политики и издатели, школьники долгими колоннами по два — и гаучо. Я нимало не удивился, обнаружив на главной аллее обширный стенд Борхесовского фонда с книгами из личной библиотеки, с номерами экспериментальных журналов, что мастер некогда редактировал, с фотками, запечатлевшими его в облике молодого ли модника, слепого ли огнеокого старца. Перед стендом сидела за столиком моложавая дама в белом. «Как это — кто? Вдова Борхеса! — ответил в пресс-центре симпатичный журналист из местных. — И вы не взяли у нее интервью?» Я поскакал назад, но дама уже ускользнула.
Так же ускользали в дальнейшем почти все знаменитости, коих я планировал прижать на ярмарке и задать пару вопросов. Кто уехал за границу, кто решил остаться дома; кто-то до сих пор кушал хлеб изгнания, кто-то подгадал сделаться президентом. Маркес, кажется, находился в США, Варгас Льоса — в Лондоне, Фуэнтес — в Париже. И т. п. Поначалу я опасался, что провалю ярмарочный репортаж, как провалил букеровский, но юный журналист, с которым мы подружились, пришел на выручку. Сводил в кафе и бары, где кучковалась литпублика, познакомил с авторами нетрадиционного толка, из новеньких. Блокнот постепенно заполнялся; осталось осветить собственно акт культурного воссоединения: торжественную церемонию и англо-аргентинский писательский семинар, имеющие состояться в конце недели в одном из палаточных павильонов.
Сперва приятель-журналист отказывался составить мне компанию: «Я на официальные тусовки не ходок. Там погружаешься либо в скуку, либо в атмосферу времен, когда сидел в тюряге, и ждешь, что за тобой вот-вот снова придут». Но я таки выцарапал у него согласие. В урочный (и дождливый) вечер мы протолкались сквозь ярмарку, счастливо избегнув столкновений с цепями наступающих школьников в парадной форме, и заняли места на дощатых скамьях под сырым брезентовым навесом. Публика скапливалась и бурлила. На безлюдном подиуме стоял длинный стол; по краям его с высоких флагштоков свисали государственные стяги: слева — аргентинский, справа — «Юнион Джек». У подиума оживленно переругивалась группка официальных лиц и мелких чиновников. Сбоку, чуть-чуть на отшибе, маячила долговязая внушительная фигура в отлично сшитом костюме: вне всякого сомнения, британский посол. С другого боку топталась фигура попухлей-поприземистей: несомненно, министр культуры Аргентины. При входе, окруженные местными растерянными и молодыми авторами (многих из них я успел опросить в кафе), не менее растерянно озирались авторы, специально прилетевшие из Англии: видная пожилая детективщица и писатель среднего поколения — прозаик и критик, чье творчество принято увязывать с традицией университетского романа.
Церемония никак не начиналась; я с удивлением посмотрел на приятеля. «Дипинцидент небось, как обычно, — сказал он. — Либо пригласили кого-то, кого нельзя было приглашать, либо не пригласили того, кого надо было пригласить непременно. На ихних тусовках всегда так. Понимаешь теперь, отчего я на них не хожу?» Но министр уже взбирался на подиум. Он вслух поразмышлял о важности диалога культур, поздравил обожаемое британское посольство с возвращением на землю Аргентины, вдруг попятился — и подшиб деревянный флагшток. «Юнион Джек» мягко спикировал вниз. В зале зашушукались, захихикали, попытались хлопать. «Он что, нарочно это сделал?» — спросил я. «Затрудняюсь сказать, — ответил приятель. — Может, он просто рохля. На ихних тусовках всегда так».
Челядинцы ринулись водружать знамя на место, но флагшток был сломан. Наконец Джека всучили какой-то девице, и ей пришлось стоять у стола с задранной рукой, пока церемония не завершилась. На помост взобрался посол Великобритании и поступил, как поступают британцы в конфликтную минуту: сострил. А потом произнес краткую, ловкую речь. Подиум вновь обезлюдел: для следующего акта требовалась дополнительная декорация — таблички с именами дискуссантов Едва клерки их расставили, явились другие клерки и убрали таблички со стола. Вновь длительное затишье. «Еще один дипинцидент, — растолковал приятель. — Наверное, кое-кто из этих литераторов недостаточно лоялен. Или же не столь самобытен, чтоб представлять Аргентину на международной арене». Долго ли, коротко ли, писатели расселись по местам, во главе стола утвердился председательствующий. И опять все смолкло до тех пор, пока в дверях не возникла пожилая спотыкливая сударыня в темном. На сцену вынесли дополнительное кресло. Сударыня плюхнулась в него и с вызовом оглядела присутствующих. «Все ясно, — сказал приятель. — Не иначе, наверху настояли, чтоб она приняла участие. Может, сам Менем и настоял». «Она тоже писательница?» «Сочиняет чего-то, но для престижа страны не это главное. Смак в том, что она была возлюбленной Борхеса».