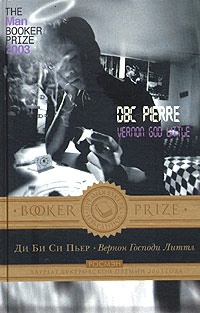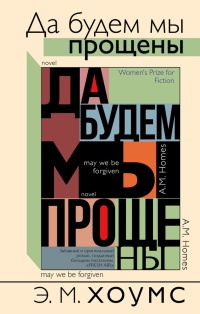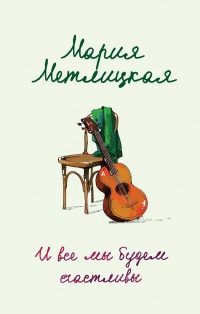Книга Профессор Криминале - Малькольм Брэдбери
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но это цветочки. Казалось, я отсутствовал годы и годы, а полутораподвальная квартира пустовала всего несколько недель. Однако ж и этих недель ей хватило, чтоб из жилища превратиться в пепелище. В спальне угнездились кошки; многие предметы обихода, включая текст-процессор «Эмстрад» и компакт-проигрыватель, сгинули, унесенные районным ли домушником, добрыми ли моими хваткими друзьями, доподлинно знавшими, где спрятан ключ. За эти недели перевернулась Британия; и я последовал ее примеру. Спасибо великому экономическому чуду тэтчеризма, на страну низошла глубочайшая рецессия. Неуклонно самонагнеталась милитаристская истерия, сам-с-усам Хусейн ускользал от челночных дипломатов: близился вооруженный конфликт. Газетное начальство закрутило гайки, и вакансий в прессе не стало вовсе, за вычетом разве тех журнецов, что всегда готовы служить мишенью и для вертлявых ракет, и для домогательств багдадской ГБ, пережидать артобстрелы и буйства военной цензуры в землянках. Или как они в краю верблюдов называются — песчанки?
Короче, жизнь пошла сложная, разбираться в радостях и бедах (теперь уже скорее бедах, чем радостях) великого философа Басло Криминале было недосуг. Впрочем, подчас мысли о выдающемся мыслителе эпохи гласности меня посещали. Где он? что он? разъезжает по свету с прелестной барышней Белли, безуспешно зализывая прорехи банковских счетов? возвратился в Бароло, к Сепульхре, к Верховной хозяйке? или домой, в будапештскую квартиру? Но при всем том мысли об Илдико Хази посещали меня, как ни странно, гораздо чаще. И не столько оттого, что я тосковал по ней — а ведь тосковал, и еще как, — сколько оттого, что слишком уж нудно было объясняться с финансовыми учреждениями, имевшими глупость предоставить мне кредитную карточку. К счастью, сумма, вложенная в лозаннский «Креди мовэ», приносила доход, достаточный, чтоб сладить с денежными тяготами. Именно ей я, собственно, обязан тем, что выжил в эти месяцы. В течение коих все меня забыли. В течение коих я забыл всех и вся.
Но почему, почему до моих ушей не доходили известия от (или об) Илдико? Да, я не дал ей своего адреса. И она мне своего не давала. Однако информацию черпаешь не только из личной переписки. По правде говоря, я что ни день рылся в газетах: вдруг она помашет мне из-за решетки полицейского фургона или улыбнется с фотографии, иллюстрирующей статью о суперафере в сокровищницах незадачливых лозаннских гномов. Статьями о финансовых аферах газеты прямо кишели; этот вид спорта сделался популярен. Половина брокеров и инвесторов планеты праздновали святки в тюремной камере. Н-да, к Рождеству я почти уверовал, что человечество — как и я сам — поголовно привенгерилось.
В общем, святки (зловредное, припадочное время) начинались на сей раз особенно муторно. Однако затем хозяин ковентгарденской рюмочной, где я некогда работал, вновь положил мне жалованье, «Нью мьюзикл экспресс» и иные интеллектуальные издания расщедрились на разовые заказы. А как-то вечером я шастал себе по рюмочной в мясницком фартуке, наделяя гораздых на жратву и рвоту участников служебной праздничной вечеринки адской смесью сырников и спуманте, как вдруг один из них вылез из-под стола и любезно меня приветствовал — журнец, бывший коллега и, по пьяной памяти, друг. Сообщил, что только что отказался от места, на которое совсем было устроился. Может, ткнешься туда? Я ткнулся; прошел собеседование — и, как прежде, заишачил на литературный раздел недавно созданной газеты, только не Крупной Воскресной, а Солидной Ежедневной со слабыми потугами на элитарность.
И тут — а в Заливе разразилась война, а вертлявые ракеты рвались над потолками бетонных бункеров, и заполыхали от края до края саудовские пески, — тут я взнуздал конька. Рецензировал, интервьюировал, колумнировал, обозревал. Воспарял над повседневностью. Это было куда легче, чем работать на телекомпанию; я ведь говорил, что я человек не визуальный, а вербальный. Кстати, охотясь за Б. К, я кое-чему научился; немногому, но научился. Стиль мой стал спокойнее, размеренней, мягче. И потом, хитрюга Роз оказалась права: букеровское выступление с голубого экрана пошло мне на пользу. Тогдашний роман-призер был прочно забыт повсюду, кроме США, где его продали в миллионах экземпляров, но не был забыт обалдуй на торжественной церемонии. Издатели лебезили предо мною, Фионы поили меня, кормили и рассказывали литературные сплетни. А я их расплетал. И печатал. Кроме того, я насухо выдоил представителей новейшей словесности, с которыми познакомился в Бароло.
Тем временем в Заливе отвоевали, отблевались жутью, геноцидом, изгнаньями, голодом и нефтяной грязью. Мир ненадолго стих и по-новой взял в руки книгу. Очередной актуальный конфликт пока не вырисовывался; на досуге пришлось улаживать конфликт позавчерашний, фолклендско-мальвинский. Культурное воссоединение Аргентины с Англией официально запланировали на апрель. Правительственные консультанты намекнули газете, что неплохо бы поместить репортаж о событии: авиабилет вам, дескать, оплатят. Публичное слияние культур было приурочено к буэнос-айресской книжной ярмарке. В Латинской Америке она котируется так же, как у нас франкфуртская, туда ежегодно съезжаются писатели и читатели, обитающие к югу от Панамского перешейка. Завотделом искусств решила, что, рассказывая искушенной публике о важнейшем культурном свершенье, можно насытить материал и последними новостями о том, как поживает пресловутый магический реализм. Сама она героически воздержалась от этой миссии — похоже, потому что по уши увязла в зыбучем адюльтере, требующем постоянного личного присутствия, — и поручила ее мне.
Что ж; я повлекся знакомой дорогой в «Хитроу», спеша на воскресный вечерний рейс «Бритиш эруэйз» в Буэнос-Айрес (простите за аллитерацию). Напутешествовавшись всласть, я отлично понимал: шестнадцатичасовой межконтинентальный перелет на аэробусе — не сахар. Аэробус — точный аналог древнегреческой каторжной галеры, с тем садистским отличием, что запаренных до полусмерти, скованных порядно рабов не заставляли просматривать фильмы с участием Арнольда Шварценеггера.
Имея это в виду, я включил лампочку и взялся снимать торопливые сливки с виднейших магических реалистов — Борхеса и Маркеса, Карпентьера, Кортасара и Фуэнтеса, — с авторов, достигших той стадии мудрости, на которой к истории и к реальности относишься с желчным недоверием, коего те и заслуживают. Джин с тоником, разносимый стюардессой, благотворно повлиял на мой испанский, и я читал как одержимый, пока давильня лайнера тянула соки из моего тела, пока хохмач-кровохлеб Шварценеггер метался по экрану над самой головой. Соседям свет ночника мешал. Но сломить меня не удалось. Я всякий раз объяснял, что они имеют дело с человеком вербальным, а не визуальным.
Мы дозаправились в Рио-де-Жанейро (выводок ржавых цистерн, угрюмо подсвеченных утренней зарею), а затем устремились на юг, через пампу, через широко раззявленную Ла-Плату, и приземлились в аэропорту «Эсейса». Весна обернулась осенью, воздух был напоен субтропической сыростью. Экономика не входит в число аргентинских чудес; да и какое государство в наши дни может этим похвастаться? У стойки обнаружилось, что местная валюта сменила не только номинальную стоимость, но и название, а в бухгалтерию газеты об этом почему-то не сообщили. После сложнейших и многословнейших обменных операций мне было дозволено ступить на территорию страны. До центра я ехал на такси; ехал очень долго. Машина пробиралась к столице по немилосердно изрытому, выщербленному скоростному шоссе. Вдоль обочины теснились ларьки, торгующие воздушными шарами, плакаты, воспевающие доблесть свежеизбранного Менема, и щиты, удостоверяющие, что Мальвины навеки останутся аргентинскими. Цветастые тупорылые автобусы и разболтанные сельские грузовики перескакивали из ряда в ряд, объезжая вымоины. В прогалах меж пригородных домов сквозила кустистая пампа.