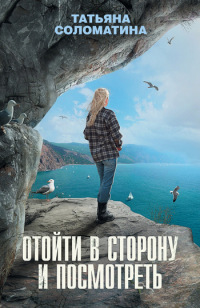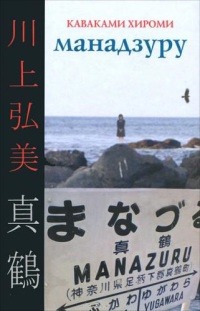Книга Половецкие пляски - Дарья Симонова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Впредь я ходила мимо дома Нонны без особых сожалений. Мутная смесь жалости и страха канула в Лету. Старшая сестра отца, нелюбимая и непонятная тетка Нонна приказала долго жить. Событие само по себе обычное, затянувшимся историям свойственно обрываться быстро и скомканно, и такая концовка никого не удивляет. Нонна жила смирно и тихо, а точнее, не тихо, а нешумно и пустынно, жила одна, без семьи и без собаки, без мерзких домашних насекомых. Смерть ее показалась скромным вознесением, итогом аккуратного отшельничества и своевременной квартплаты, а совсем не шоком и не остановкой сердца, как примерно значилось в докторской бумажке. Нонна умерла из-за любви, как это называли, от любви состарилась и умерла — от нее ушел Ветров, еще более молчаливый, скрученный жгутом своего царствования в правительственных креслах. Он всегда появлялся будто в маске — кряжистый неприветливый человек с деликатной лысинкой. Ума не приложить, зачем он расстался с Нонной так поздно, какой это имело смысл, если четыре десятка лет их добропорядочную связь ничто не потревожило. Жена Ветрова не роптала, развод ей не грозил, супруг скрепил союз с ней навсегда своим счастливым денежным местом, где графы «расторжение брака» не существовало. Нонна тоже вроде была пристроена — в просторном жилище на четвертом этаже. Дом артистов у Зеленого театра славился созвездием избранных жильцов. Удобство внутри, удобство снаружи, центр города, жить можно, не делая и пятидесяти шагов за день, неясно только, при чем здесь артисты — по большей части квартиры занимала управляющая шушера.
Тете досталась двухкомнатная, с огромным коридором, посреди которого покоился кованый сундук. В таких хранят бабушкино приданое, постельное старье или утварь, обреченную на забвение. Сундук в коридоре остался в наследство от прежних квартирантских душ, и его не сдвинули с законного местечка, дабы не повернуть ход истории вспять, памятуя о сказочных поверьях. Занятных вещей более не было с точки зрения моих детских капризов, и красок не существовало вовсе в этой просторной норе с громадными, как орган, окнами на трамваи. Помню псевдобарочные скользкие перила в подъезде, все вверх и вверх, коренастые ступени лестницы в один конец, лестницы без возвращения, ибо визиты к Нонне ввергали меня в бурую сонную печаль будто по отмененному празднику, и обратной дороги не было. Только вверх, в новую печаль, еще более необъяснимую. Потому как одиночество необъяснимо. И как это можно любить дрянного человека сорок лет подряд — тоже необъяснимо…
Но все это пустяки, в детстве ничего не смыслишь в обязательном для всех брачном счастье, просто отсутствие его подозрительно и ввергает в бесовские сомнения. Выходит, не для всех заготовлены билетики в здешний рай, и боже упаси не урвать своей доли. Впрочем, я не знала, чего Нонна хотела и обижена ли она на жизнь, ничего не сказать было по острому веснушчатому лицу, беспрестанно одинаково улыбающемуся и друзьям, и соседушкам. Когда-то она работала судьей в правительственном доме, что славился своим буфетом. Из этого буфета тетя Нонна приносила замысловатые и не очень лакомства, за которыми в городе нужно было еще побегать. Мне давали мятые рубли и отправляли к тетке за гостинцами.
Даже если тетя попала в рай, что вероятнее всего, она и там, должно быть, грустно сидит на венском стуле, в толстокожих очках отражается пляска цветов старенького телевизора, а на спине длинной змейкой покоится тонкая рыжая косица. Такой же картинкой она запечатлелась в своей протяжной квартире. Пространство было велико Нонне в той же степени, в которой Ветрову был тесен пиджак, и два этих состояния странно взаимодополняли друг друга, так что ни то ни другое не резало глаз. Изредка сверлил вопрос: где же все остальные, где излишки родственной крови, которыми в изобилии наполнены другие дома… Но спрашивать об этом Нонну строго-настрого запрещалось, тем более что даже отец, ее младший брат, не говорил с ней никогда дольше восьми минут. Быть может, оттого, что в детстве боялся ее стеклянного глаза. Ничуть не отличавшегося от натурального, но все же чужеродного и неподвижного, и еще более неподвижного от сознания своей стеклянности. В пятнадцатилетнюю Нонну случайно угодил выстрел из рогатки. Можно было все залатать чики-чики, но врач попался дерьмовый и время было не то. Не до форса. Умирала мать — дворянка в отставке и в глуши, учившая детей игре на фортепьянах, а научившая одним несчастьям. От нее осталось неприкаянное пианино с вечно расстроенным вяканием. На нем никто не музицировал, и купить его никто не хотел. А тетя не любила реликвии, тем более такие громоздкие. Со смертью ее матери все манерно-кружевные семейные портреты, отдававшие чем-то сальным и слащавым, кучкой слиплись и перекочевали к отцу. Казалось бы, обычай диктует обратный порядок, однако Нонна игнорировала обычаи, она следовала кодексам, отчего и была в немилости у родни. Маленькую рыжую судью любил только Ветров.
Они познакомились в лохматые времена студенчества Нонны в неизвестном году. Их молодые фото отсутствовали. Что за птица Ветров и каким оперением он приманил тетю Нонну — уже не скажет никто. Строгая Нонна удивила мир неровным дыханием и связалась со скользким типом. Он был женат, но баловал белыми цветами и в то время еще пах одеколоном. Ближе к зрелости он уже приносил с собой потный душок, но пот и одеколон различались меж собой не слишком. Я помню только пот, ибо по времени рождения застала Ветрова уже поизносившимся. Меня приводили за руку — он без всяких чувств в заячьих глазах косился из боковой комнаты, двери которой всегда держали открытыми, но никогда туда не приглашали. В боковой комнате всегда был вечер, и приспущенное, как сонные ресницы, солнце слепило зрачок. У стенки покоилась кровать, из-за тюлевого покрывала и обвисавших рюшечек на подушках напоминавшая толстую невесту, упавшую навзничь. Невозможно было представить Ветрова или кого бы то ни было нагишом на этом торжественном ложе; оно высилось, как музейная громадина, давно простывшая без человеческих тел. Напротив кровати располагался древний серьезный стол эпохи диктатуры с глубокими выдвижными ящиками, готовыми вместить содержимое всех здешних комодов и сервантов. Примечательнее всего то, что все эти ящики были заполнены до отказа разнообразнейшими бумагами, папками, блокнотами, конвертами — будто здесь составляли досье на весь мир (я успевала взглянуть на это краем глаза, когда в теткин отпуск мне поручалось поливать ее фиалки и традесканции). Глубже любопытствовать совсем не хотелось — юридические архивы меня не интересовали, а из фотографий хранились только мелкие групповые снимки, толстеньким почерком внизу подписанные «Алушта, 67 г.» или наподобие того. Где-то в полукруге сощуренных неразборчивых лиц улыбалась Нонна, а на сероватом втором плане гнусно поблескивали вездесущие санаторные монументы. За этим столом и восседал обычно Ветров, если я нечаянно заставала его здесь, — он никогда ничего не отвечал на приветствия, только кивал. Похоже было, что Ветров навсегда останется тут как необходимая часть комнатной композиции, и не из-за дел любовных, а по какому-то высочайшему назначению…
Имя Ветрова Нонна всегда бормотала неслышно, словно стараясь скрыть его от всех. Скорее всего тетя смущалась, время запихивает смущение в самые дальние тупики натуры, но иной раз, наоборот, высвечивает. Одновременно Нонна помнила и то, что о ее дружке знают многое, и тем не менее… Нонна стеснялась, несмотря на то, что давно превратилась в судью из нерешительной рыжей девочки, старшей сестры, после смерти матери поневоле посерьезневшей на лицо и спрятавшей душу. В юности она не лишена была своеобразной чуть лягушачьей миловидности, но, по рассказам, на флирт времени не теряла. Она взахлеб изучала юриспруденцию.