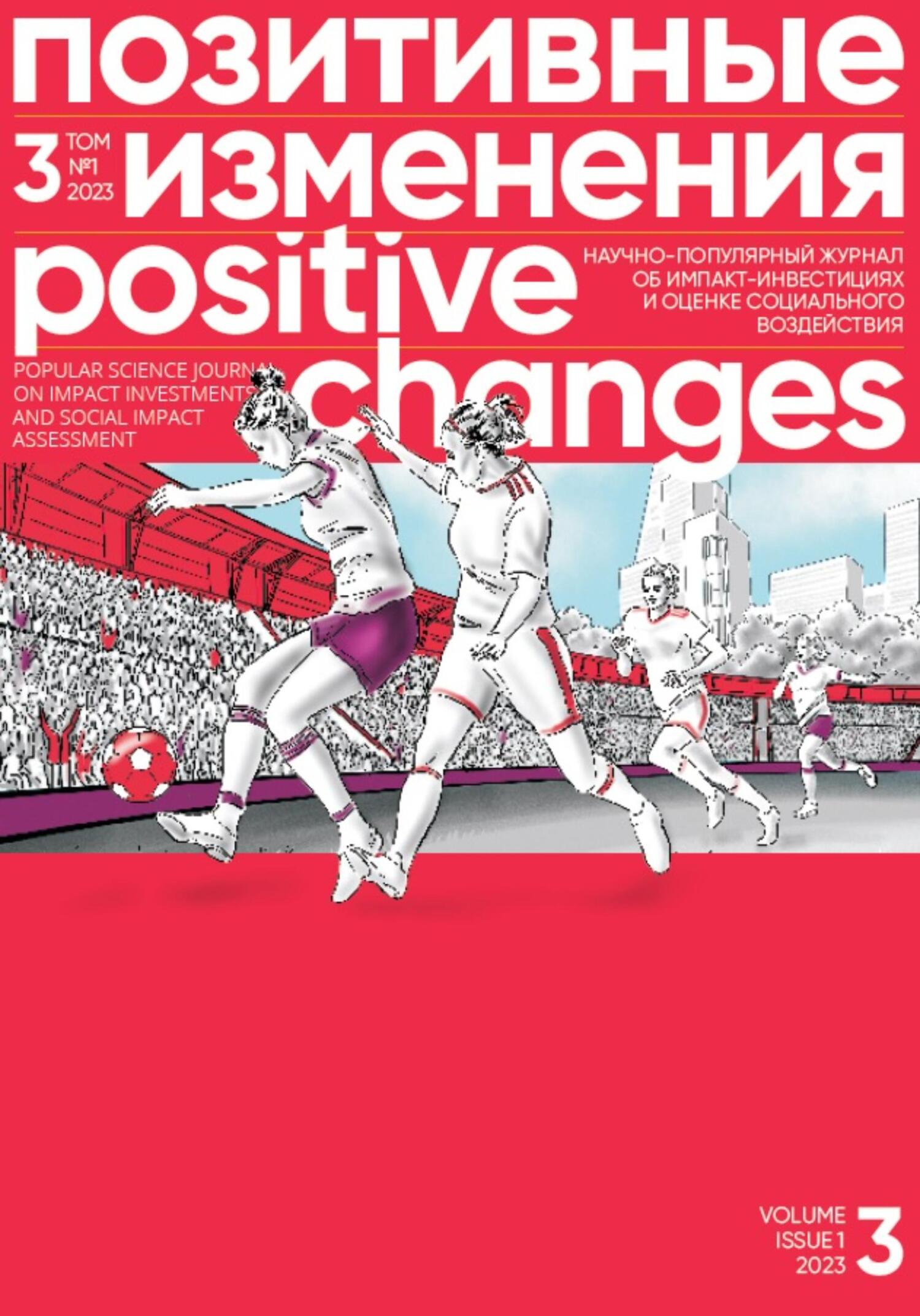Книга Нетаньяху. Отчет о второстепенном и в конечном счете неважном событии из жизни очень известной семьи - Джошуа Коэн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Год тыща четыреста девяносто второй,
Колумб океан переплыл голубой,
А церковь решила: евреев долой!
На берег тут вышел индеец босой
И спросил: «Ну и кто тут индеец?»
Но доктору Морсу я этот стишок, разумеется, читать не стал. Сказал лишь:
— Я ничего не смыслю в средневековой Иберии. Признаюсь, она для меня вообще загадка.
Декан вздохнул, набил трубку.
— Он занимается средневековой Иберией и… — доктор Морс сделал паузу, — историей евреев.
И в клубе дыма допил стакан.
— Вот я и спрашиваю, — декан причмокнул, — могу ли я рассчитывать, что вы, так сказать, встретите его честь по чести, познакомите с факультетом — в общем, окажете ему радушный прием, ведь радушный прием — это важно.
— И благоприятная обстановка.
— Именно. А потом скажете нам, что думаете.
— О чем?
— Кому и судить, как не вам, ведь вы так замечательно вписались в наш коллектив и этот человек — один из ваших.
— Один из наших?
— Я рад, что вы меня понимаете.
Мы замолчали. Я не хотел пить второй коктейль, но тут не удержался и пригубил.
— Буду откровенен. Этого человека, этого кандидата нам навязали. И навязал не кто иной, как Хагглс. Хагглс из семинарии. Ему нужно, чтобы кто-то преподавал Библию. Резюме нам шлют постоянно, даже когда у нас нет вакансий, Хагглс их просмотрел и, видимо, отыскал единственного специалиста по истории Европы, который вдобавок смыслит в гебраистике. — Доктор Морс постучал трубкою по столу. — Если Хагглсу так занадобился преподаватель Библии, взял бы монахиню. Или платил бы вашей жене. Она ведь хорошо знает Библию?
Я покачал головой, доктор Морс вытряхнул табачные крошки из складок на брюках и откинулся на спинку кресла, так что травянистый кардиган обтянул его брюхо; в промежутках меж плетеных кожаных пуговиц виднелась кипяченая рубашка. Я таращился на эти пуговицы, эти промежутки, и мысли мои блуждали от этих белесых полос к должности штатного преподавателя.
— Простите меня, Руб. Кажется, мы единственный гуманитарный университет в Америке, отказывающийся смириться с отделением церкви от государства. Хагглс имел наглость предложить администрации его кандидатуру, а администрация, в свою очередь, предложила ее мне — он обратился к ним в обход меня и не оставил мне выбора, пришлось пригласить этого человека на собеседование. Впрочем, его я ничуть не виню. Он же не в курсе наших закулисных интриг. Он ученый, он ищет работу. И, между прочим, ученый талантливый. По крайней мере, так мне говорили.
Стакан, хоть и полупустой, тяготил мою руку.
Но доктор Морс улыбался.
— Руб, никто из нас не обязан разбираться во всем. Даже вы. Ваши коллеги из состава комиссии помогут вам оценить кандидата. Я предложил в члены комиссии доктора Гэлбрейта, доктора Киммеля и доктора Хилларда. Ну и я, председатель.
— То есть я единственный американист?
— Видимо, так, Руб. Фигура во многом уникальная. — Он потянулся к крышке ядра, выбил трубку. — Если у вас появятся соображения о познаниях нашего кандидата, я охотно их выслушаю, но не менее охотно я выслушаю ваши соображения о нем как о человеке. О его характере. Годится ли он, соответствует ли.
— Чему?
— Я хочу знать, впишется ли он в коллектив. Станет ли своим в Корбине.
— Польщен, что вы считаете, будто мне хватит квалификации. — Я допил коктейль. — По крайней мере, на это.
Доктор Морс усмехнулся, вытряхнул последние угольки в перевернутую черепную коробку пушечного ядра, где они и тлели.
— Наверняка вы помните, Руб, как приехали сюда в первый раз, еще никого здесь не зная, как стояли перед комиссией и рассказывали о себе. Это такая нервотрепка. Вы хотя бы его успокоите.
Вот, собственно, и все. Далее мы обсуждали формальности, доктор Морс попытался выговорить фамилию кандидата, я никак не мог его понять, мне слышался то Бенто Неру, то Бензедрин Накамото, то Бензин Натти Яху… Я воображал себе последнего из могикан: его вымазали дегтем, обваляли в перьях и подожгли…
Наконец доктор Морс просто-напросто порылся в ящиках и протянул мне неряшливо скрепленные листы машинописных копий — чернила выцвели, текст размазался, титульные листы завиваются, точно свитки, вокруг имени: Бенцион Нетаньяху…
Это имя ничего не говорило мне, да и кому бы то ни было… и даже фамилия — она прогремела только через поколение. Тогда же о ней никто не слыхал, тем паче в Америке. Более того, она казалась диковинной, иностранной. Чужеземная фамилия, старая как мир и вместе с тем из будущего; фамилия и из Библии, и из комиксов.
Наследник царя Осии. Приятель Флэша Гордона[23].
На брисе меня нарекли Рувим бен Алтер — Рувим, сын Алтера. Будь у меня сын, его звали бы бен Рувим — сын Рувима. Бенцион — сын Сиона; моего иврита, выученного к бар-мицве, на это хватило, но и только.
Мне предстояла встреча с сыном Сиона.
2
В Бронксе, неподалеку от ухоженных джунглей Пелем-парка, посередине квартала расположилось приземистое строение из замызганного беленого кирпича, над входом торчит козырек с перегоревшими лампочками и корявыми буквами: порой на нем виднеется надпись «Слава Тебе, Господи Боже», порой зашифрованная цитата — например, «Деяния 1:7» или «Екклесиаст 1:9», — но одна фраза остается неизменной: «Человек предполагает, а Бог располагает». Я уехал из здешних мест до того, как тут открыли церковь (ее паству я мысленно окрестил «предположенцами»), но, бывая в старом своем районе, отметил совершившуюся перемену — я парковал машину перед входом в церковь, надеясь, что отсюда-то