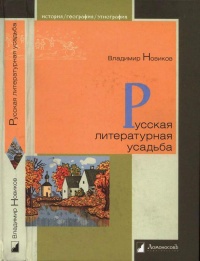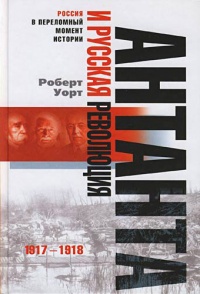Книга Русский Париж - Елена Крюкова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Взяла бумагу. Ручку в чернильницу окунула. Застыла так.
Ничего. Ни строчки. Ни слова.
Черная капля — на белом снегу. Черная ворона в метели.
«Я больше никогда не напишу ничего?!»
И гул, пчелиный гул громадного улья-Парижа за грязным, век немытым окном.
* * *
— Мадам! Мадам! Я вас узнал!
Такси притормозило рядом, шины шуршали, Анна сразу не остановилась — шла, закинув голову. Господи, по-русски окликнул!
— Мадам, прошу!
За опущенным стеклом — седая голова. Старый седой орел, глаза, видавшие виды. Где она его видела?
— Мадам, о, вспомните! Я вас подвозил с вокзала. У вас такие милые детки!
Анна сжала руки.
— Генерал!
— Да, генерал Денисов, Иван Дометьевич… Господи, да садитесь же, родная, едемте со мной! Ах я нахал, не спросил даже, есть ли времечко у вас…
Она уже неловко, неуклюже влезала в тесное старенькое авто.
Не спросила его, куда везет ее, зачем. Русский генерал! Все родное!
И ее он назвал — «родная».
Они все друг другу родные в этом городе, в этой столице мира, в этом вечном уличном кафэ, где голуби гуляют по столам и под ногами, где никому ни до кого дела нет… где на улице умрешь — и в Сену ночные бродяги, клошары, бросят тебя, прежде карманы обчистив…
Денисов, Денисов… Да он же… Невероятно.
Громы встрелов, горы трупов, кровавые полосы по вчера живым лицам, по синюшным, вздутым рукам. Белая гвардия, горе и ужас отступленья. И это — пережить!
А он уже гудел, радостно, счастливо, над ее ухом:
— Моя армия, да… я чудом спасся… изранен весь… я не боялся смерти… я хотел вернуть, вернуть голубку мою, Россию!.. вернуть царя, вернуть Бога… ибо понимал: их обоих убивают, и убьют навек… так и вышло… а вы?.. где вы, что вы?.. вы меня-то хоть знаете, слышали обо мне?.. превыше всего — Россия… да ведь нет ее, нет уже, матушки…
— Я знаю вас, — из ее горла вылетели не слова: птичий клекот. Слезы лились по скулам, по подбородку. — Иван Дометьевич!.. вы…
Руки вцеплялись в руль, пальцы белели.
— Не надо. Прошу вас, не плачьте!
Остановил авто около террасы кафэ. Господи, сколько таких кафэ в Париже! И им суждено здесь сидеть визави. И вот чашечка кофе, и вот другая. И какое-то дикое, вычурное пирожное, сладость французская — она всегда была к ним равнодушна. Мать когда-то оставляла их, детей, без сладостей, если они не выучат урок, если не сыграют правильно этюд Карла Черни на фортепьяно. Она привыкла жить без излишеств. Скупо. Скудно. Как нежно смотрит старик на нее!
— Ешьте, ешьте, золотая моя…
Давилась, а ела. И — вкусно оказалось.
Речь текла и сбивалась, речь плыла и таяла сахаром, горькой солью на языке; речь вилась и исчезала сизым дымом, ее можно было вдыхать, как цветок, плакать над ней, как над дорогим усопшим, во гробе лежащим.
— Вы освоились?.. о, невозможно привыкнуть… все равно чужбина… а молитесь где?.. а, да-да, у отца Николая, на рю Дарю?.. святой человек, великий… и я к нему бываю на чаек приглашен… Пасху вот давеча вместе встречали… а вы занимаетесь чем, солнышко?.. ах, вы поэт?.. писатель?.. Боже, счастлив и несчастен тот, кто — пишет… вроде бы для людей все оставляет, все… и себя, и время свое… а — не все понимают, не всегда… часто — забывают… нет, нет, вас не забудут!.. вы…
Не давала договорить: перебивала.
— Устаете — все время — в машине? Ездить и ездить? Бензином — дышать?.. Кормите семью, понимаю… Дочь?.. Одна — дочь?.. И больше — никого?.. О… как же вы… И дочь одинока, и внуков нет?.. Еще надеетесь… еще…
Кофе остывал, приносили горячий, губы прихлебывали и обжигались, губы лепетали, трудились, чтобы нелепо, коряво рассказать биение сердца.
— А Россию помните?.. березки над рекой… я тут без березок — как без души… увидел бы — обнял, прижался…
— Попросите дочь, пусть родит вам внука, назовите — хорошим русским именем…
— А крестьян помните?.. как на ярманку едут… телеги гремят по мостовой, качаются… пахнет так хорошо, свежим караваем, творогом… ягодой давленой… хожу средь рядов — пряник за копейку покупаю!.. тульский, ароматный… А — службу на Рождество — помните?.. снега, снега… мятель… в храм идешь, тьма, на земле пуржит, а в бездне — над головою — звезды… крупные!.. чисто горят, ярко, ясно… как глаза… тех, кто умер… они смотрят на нас, Анюточка… смотрят, смотрят на нас!.. и крестишься тихо, бредешь и плачешь… радостными такими слезами…
— Да! А в храме — тепло… медом, воском как обдаст с порога… будто — в пчельник войдешь…
— Верно… огонь горит… свечи… огонь везде… иконостас пылает… радостно все, празднично, и у икон — елочки махонькие… и еловые ветви в больших цинковых ведрах… и — батюшка гудит, весь гудит, как огромный шмель черный… миром Господу помолимся!.. Боже, неужели все это было… было все… не верю… не ве…
Греть ладони о пустую холодную чашку. Женские пальцы касаются мужских, почти не касаясь.
— У вас, Анюточка, слезки-то по щечкам… как миро святое, текут…
— Что вы, Иван Дометьич… не богохульствуйте… я сама богохульница еще та… если б я духовные стихи писала… а то…
Им кажется: у них одно лицо, и одна улыбка, и слезы — одни на двоих.
* * *
Сидели в кафэ до позднего вечера, пока не продрогли.
Потом в авто сели. Клаксон у генерала испортился — не гудел.
Отвез Анну домой.
Пустая гулкая лестница. Аля открыла дверь. Прижала палец к губам: тихо, Ника спит. Глядела на сына остановившимся взглядом. Как вырос. Не узнать. Незаметно — пока она тут с собой боролась, с Парижем сражалась.
— Мама, где ты была?
Растерла лицо ладонями.
— В России.
— Мама, ты бредишь! Ты с ума сошла!
Губы Али дергались, брови отчаянно ползли на лоб.
«Она и правда думает — полоумная я».
— В кафэ сидела. С русским генералом. Помнишь таксиста, что подвозил нас с Гар де Лест?
Процокала на каблуках в кухню. Ничем съестным не пахло. Дети все подъели.
Семена не было дома. Она уже привыкла к его отсутствию.
Радовалась даже: одна поспит, на свободе, на просторе.
Под утро, не найдя спросонья теплой спины рядом, привычной руки, — кусала кулак, утыкалась в подушку лицом.
* * *
Горлышко бутылки. Какое оно хрупкое.
Бутылка — женщина. Широкобедрая… тонкошеяя. Схвати за шею — задушишь.
Задуши в себе желание. Желание дышать. Желание жить.