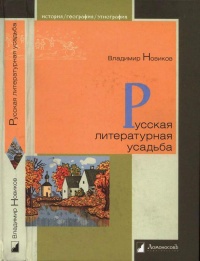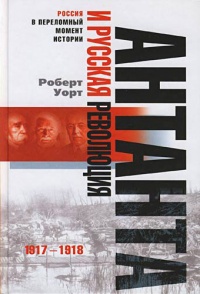Книга Русский Париж - Елена Крюкова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
О, еще хочу пожить! Хочу!
А зачем?
А чтобы попить вволю, поесть. Я ж вечно не жрамши. Я танцовщица.
Жри! На том свете не пожрешь!
…на том свете мне причаститься дадут. Из теплых, добрых рук. И светом омоют.
* * *
Ольга Хахульская пила все подряд. Уже не разбирая. Было бы спиртное.
Ольга Хахульская любовников уже не выбирала — отдавалась направо и налево, всем подряд: тем, кто ее еще мог захотеть. На одну ночь. На час. На четверть часа! Все равно.
Она полюбила «Перно», полюбила крепкий «Рикар» и «Мари Бризар» — дух аниса одновременно и волновал ее, и успокаивал. Анис говорил ей, подмигивая из рюмки: все хорошо, Леличка! Все отлично! Тебе осталась одна забава: пей да гуляй, на том свете не погуляешь!
Ночи на набережных. Ночи в салонах. Ночи в кафэ. Ночи в дешевых пивных. Ночи в мансардах художников, в монмартрских мастерских. Булыжники мостовых старого Монмартра сбивали, царапали Ольгины высокие острые каблучки. Шла, пошатываясь. Иной раз и сильно шатаясь. Бывало — качнувшись, не устояв на ногах, садилась на тротуар, на мостовую. Так сидела, бессмысленно, пьяно улыбаясь.
Пако все видел. Пако не мог ее остановить. Однажды она крикнула ему в лицо: «Я любила только Игоря! И теперь — люблю!». Кабесон занес руку, чтобы ударить ее. И — погладил по локтю, по голове. Ольга хотела его оттолкнуть, грубо и ненавидяще; сунулась к нему — и внезапно обняла, и только потом оттолкнула.
Танго, парижское танго! Пьяная, она танцевала лучше, винртуозней, чем трезвая. Многие кафэ, многие ночные площади и мосты помнили ее танго. Аккордеон, захлебывайся! Ее приглашали наперебой. Иные думали: вот проститутка, и как танцует здорово, значит, и в постели чудеса покажет! Ее покупали, брали на ночь, бесцеремонно уводили под локоть — куда, она не знала. Шла беспечно, вихляя задом, нетвердо ставя стройную ногу, еще такую нежно-наглую, еще аппетитную. Колени, правда, начали угласто, кочергами, торчать: она пила много, а ела мало, и алкоголь выжигал ее изнутри.
В большом свете, среди богатых покупателей Кабесона, знали все. Сочувствовали горю. «Может, вы, маэстро, супругу… на курорт свозите?» Пако отмалчивался. Разговор умирал сам собою.
* * *
Пьяная Ольга, пьяно кружится мост, где всегда, от сотворенья мира, танцуют танго. Она весь вечер ходила, шатаясь, по Pont des Arts, то и дело вынимала из-под камисоли медный медальон — открывала его, углы губ дрожали, как у старухи: глядела на портрет Игоря. Давняя фотография, еще в России сделанная. Игорь — красавчик?! Мягко сказано. Ангел… архангел Гавриил, Благую весть несущий!.. нет, бери выше, мадам Кабесон: демон, и демон поверженный… падающий в черную пропасть…
Прижимала медальон к губам, зеленеющая, затянутая плесенью времени медь холодила пухлые, пьяные, пахнущие анисом губы.
Из сумочки доставала бутылку, пробку вытаскивала. Хлебала: жадно, полным глотком. А, тут у нее коньяк! Ну что ж, пусть будет коньяк. А не любимый «Рикар». Пары толклись вокруг мошкарой. Подолы чужих платьев задевали ее колени, ее голени. Мужские парфюмы шибали в нос. Эх, дурачье, сейчас она вам покажет класс! Русская балерина, петербургская хореография! Уроки танго в экзотическом Буэнос-Айресе! Какое изящество! Какие… движенья… ножки… какие…
Крепкая рука обхватила ее за талию. Она еще могла танцевать! Она еще танцевала.
Скрипка стонала. Бандонеон выл протяжно, тоскливо, как волк в зимней степи. Гитара ярилась и нападала — это была ее последняя битва.
Пьяное танго! Последнее танго! Как хорошо! Сколько воздуха, света. Ярко горит, пылает — видно сквозь ребра — красное сердце!
Мужчина, ведите вот так, а не так! Это я, я вас веду… Как вы соблазнительно делаете болео! А вот и ганчо. Я обхвачу ногою вашу ногу. Ты пойдешь со мной? Я дешево беру… Я дорого стою, щенок, дороже меня нет тангеры в Париже! Мужчина, ты пахнешь зверем. А чем пахну я? Коньяком? А-ха-ха, правда! Коньяк в сумочке у меня, во фляжке. Оттанцуем — выпьем, авек плезир! Плезир, ха-ха-ха… Дам я тебе удовольствие, дам! Доставлю! Ты поймал последнюю тангеру — так держи ее крепче! Улетит!.. у-ле…
Подкосилось колено. Задохнулась. Партнер бережно усадил ее прямо на асфальт у перил моста. Рядом играл бандонеон. Музыка так и лезла в уши, раздирала, мучила мозг. Ольга раскрыла сумочку. Вытащила флягу.
— Авек плезир… Тьфу!.. убежал, гадина…
Цветастое ситцевое платье задралось выше колен. Скрипач косился, смычок бешено бился в костлявой руке.
Ольга отдохнула, отсиделась, еще глотнула коньяку. Полегчало.
Встала, вцепившись в перила; вскинулась, как птица. Руки-мои-крылья! Вперед!
Ввинтилась в танцующую толпу. Музыка обняла ее, понесла. Ее тут же подхватили. Пьяно смеялась, дышала в лицо незнакомцу перегаром, ментолом, духами, — а ноги, привычные к работе, делали свое дело.
Скоро ли рассвет? О, еще не скоро.
Задыхаясь, оторвалась от тангеро, от мужчины, от чужого лица и улыбки. Попятилась. Осела на горячий от десятков ног, от музыки и поцелуев камень. Париж, дрянной мальчишка! Не стреляй в нее. Она сама. Она всегда сама!
Слышала свое дыханье. Леличка, ты сипишь как паровоз! На ночь — лимон… мед… малиновое варенье… молоко с содой и с маслом… и — горчичники, так, чтоб до костей продрало… Щелкнул золоченый замок черепаховой сумочки. Ольга выдернула из сумки револьвер. Пако купил ей «смит-и-вессон» — о, заботливый! А вдруг на нее кто нападет! Ночной Париж опасен, как ночной Нью-Йорк, ночной Токио!
А ночная Москва, матушка?! Головы там не сносить!
Советская… мертвецкая… Москва…
Рубиновые звезды над Кремлем… над снежным огнем…
Рука не дрожала. Никто не видел: все танцевали, и музыка играла. Конца нет музыке. Конца нет. Конца…
Легкий хлопок не услышал никто. Танцевали все, веселились.
К Ольге подбежали лишь тогда, когда молоденький тангеро запнулся об ее холодную, рельсиной торчащую ногу, чуть не упал, выругался: «Putain!» — а лежащая на асфальте красивая дама в цветастом ситце и не пошевелилась.
* * *
Документы были при ней. В сумочке.
Коньяк был при ней. В старой солдатской фляжке образца 1914 года.
Ажаны позвонили месье Кабесону сразу же.
Пако держал трубку в руке и глядел на себя в зеркало.
Слушал, что сыплет в трубку, как из пулемета, молодой старательный ажан, — и не слышал. Глядел на себя; себя разглядывал. Цепкий взгляд художника подмечал: вот натура бледнеет, вот на шее красные пятна. Безумием, обреченностью блестят выпуклые рачьи глаза.
В его особняк привезли мертвую Ольгу. И на эту натуру, с кожей уже в синеву, в зелень, с оттенком арктического льда, льдов и снегов ее родины, он тоже бесстрашно смотрел.
Когда ажаны ушли — Пако поставил на мольберт холст, взял уголь, кисти, палитру и стал писать портрет мертвой жены.