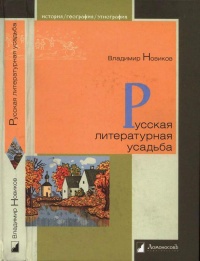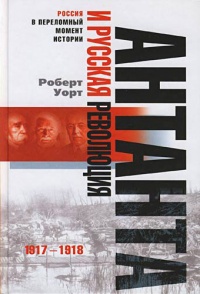Книга Русский Париж - Елена Крюкова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Публика, орущая: «Оле! Оле!» — не обращала вниманья на маленького большеголового человечка, вскочившего со скамьи. Карлик махал корявыми руками, жалобно глядел огромными вытаращенными глазами — белки бешено сверкали — на недвижно, гордо сидящую черноволосую женщину в сильно открытом черном платье.
— В пасть нищеты?! Я не… дам тебе это сделать!
Черноволосая гордая голова дрогнула, острый подбородок пропорол горячий, громко кричащий воздух.
— Я уйду в монастырь.
— Дура!
«Tonta, — послушно, беззвучно повторили губы, — да, я tonta».
— …как русские прабабки мои.
И добавила по-русски:
— Вам, французенкам, этого не понять.
Он схватил ее за руку.
— Дура, вернись лучше на сцену! Танцуй! Я не тюремщик! Я отпускаю тебя! Лети!
Вместо улыбки вышел оскал.
— У меня уже нет крыльев, Пако. Вместо крыльев — голые холодные лопатки. И еще руки. Они тебя уже не смогут обнимать.
Маленький человек с огромной лысой головой сгорбился, упал на скамью, плакал, как ребенок. А вокруг все глотки вопили:
— Оле! Оле!
Ало-золотой, румяный тореро, весь в крови и ссадинах, торжествующе поднимал руку над черной грудой мяса и костей, что минуту назад была живым сильным быком.
* * *
Набережные Парижа, струение зелено-серой, чужой реки. Сена должна уже стать ей родной. Годы идут. Она сама утекает, как река.
Женщина — река; обнимает города и страны, дарит любовь. Однажды втекает в океан — в смерть. Когда? Где ее океан?
Анна шла по набережной де Тюильри. Туманно светился за рекой музей д’Орсэ, похожий на вокзал. «Да это и был вокзал когда-то давно». Семен то исчезал на два, три дня, а то и на неделю; то появлялся, судорожно обнимал ее, пытался заглянуть в глаза. Ника вставал перед отцом во фрунт — крошечный, смешной офицерик:
— Папа, я написал стих!
Семен беспомощно оглядывался на Анну.
— Ну вот, болезнь передалась по наследству…
Анна зажимала Нике рот ладонью. Потом, не сейчас! Видишь, папа устал!
Она река, и впереди океан. Скорей бы! Никто не знает часа своего. Что еще назначено ей сделать в мире?
«Мне не стыдно того, что я написала. Что — выродила. Но я так давно уже не беременна стихами. А — чем? Что грядет?»
Мальчишка-газетчик пытался всунуть газету ей в руки. Анна вытащила из кармана монету, ткнула мальчишке в кулак, взяла газету — и с отвращением выбросила в урну. Шуршанье однодневной бумаги, свинцовый запах безжалостных строк. Она знает: там пишут про войну в Испании.
В мире всегда идет война. Маленькая или большая — неважно. Всегда.
Пьяный веселый голос раздался сзади:
— Мадам Тсарэв, я вас узнал! Вы так идете…
Обернулась. Усмехнулась.
— Как?
Монигетти плел языком вензеля. Глаза красные, разбитая скула.
— Как… русская царица!
— Я? Царица? — Насмешливо оглядела себя, подняв руки, выставив худую ногу из-под серой штапельной юбки. Обшлага скользнули вниз. Увидела белый след от своей серебряной змеи на запястье. «Индуска носит. Пускай. На счастье». — Не смешите, о!
— Можно я вас нарисую?
— Вы пьяны.
Смеялась. Он смеялся тоже. У него во рту не хватало зубов.
Монигетти выхватил из кармана альбом, из другого — толстый плотницкий карандаш. Анна, повинуясь пьяному, плывущему взгляду, осторожно, медленно села на каменный парапет. Монигетти сел на корточки, глядел на Анну снизу вверх. Восторг в налитых абсентом глазах сменился острым, безжалостным вниманием, ощупыванием ускользающей натуры.
Рисовал, не глядя на рисунок. Альбом дрожал в руках. Ветер гнал по набережной сухие листья.
«Я сухой лист. Я оторвалась. Лечу. Семья? Моя оболочка занимается ею. Семен? Где любовь? Дети? Утираю Нике сопли — и мысль: скоро другая женщина будет тебе — слезы утирать… Кто я? Куда несет ветер?»
— Куда ж нам плыть? — тихо сказала по-русски.
— В море зла плывем! Прямо в ужас правим! — Голос задорный, а в глазах тьма. — Вы извините, мадам Тсарэв, я весь в синяках. Меня избили тут одни… алжирцы. Морды синие! Эх, если б попозировали! Я б такие этюды с них написал — лучше самого Делакруа! Знаете, как били? Смертным боем. Руки за спиной связали — и…
Монигетти рисовал, карандаш бегал по бумаге, застывал, опять танцевал.
«Что-то не то, не так. Избили? Он слишком бледен! Его щеки синеют. Бутылка, безумие… Живет на дне — и не знает, что его картины — клад! Кабесон знаменит, а Монигетти — среди отбросов. Как нами жонглирует время!»
Тяжело дыша, он оторвал карандаш от листа. Мотал головой. Будто бы еще сильней опьянел, пока ее рисовал.
Анна подошла, взглянула на рисунок.
— Прекрасно. Можно?
Руку протянула — думала, он вырвет лист из альбома, пьяный и добрый, подарит ей.
Монигетти прижал альбом к сердцу. Как ее, живую — прижал.
— Нет. Вы — со мной. Вы — навсегда. Навсегда, слышите!
Анна опустила голову. Он уже сидел на камнях набережной своим тощим петушиным задом. Вечерело, и огромными плодами золотого заморского манго загорались вдоль всей набережной фонари.
— Ну хорошо. Вставайте!
Протянула руку. Монигетти легонько ударил Анну по руке.
— Не-е-е-ет… Не встану! Мне тут хорошо. Сижу и слушаю воду! Как она журчит… Слышите, как поет Сена?
Оба два, три мгновенья слушали тишину, смутный гул огромного голода, шорох листьев у ног.
— До свиданья, Джованни. Подите домой и выспитесь хорошенько.
— До свиданья, Аннет!
Ласково, нежно назвал ее.
Легкий вздрог — крыльями бабочки прошептал по коже.
* * *
Только Анна отошла, ушла, стуча каблуками по тротуару — упал, завалился набок, не выпуская альбом из красных холодных рук.
Через час сердобольные прохожие вызвали полицейских. Труп увезли. Документов при пьянице никаких: лишь альбом с рисунками в руках, ну, да верно, уличный художник, мало ли их сидит около башни Эйфеля, на Монмартре, на Ситэ, в саду Тюильри.
Опознали. Ахали. Ко гробу вся парижская богема приволоклась. Прощались, прощенья просили. В остылый лоб лицемерно целовали. Жена Монигетти, Женевьев Жане, с младенцем на руках выбросилась из окна — с верхнего этажа дома, где — салон Стэнли.
Назавтра все газеты пестрели известием о трех смертях.
Анна не читала газеты. Ей — сказали.
Слез не было. Не было ничего. Внутри — равнодушие, холодная улыбка. Пустота.