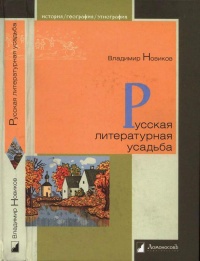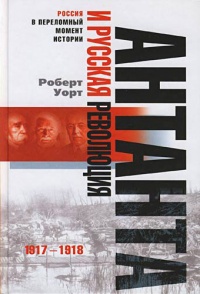Книга Русский Париж - Елена Крюкова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Дверь салона раскрылась, как голодный рот. Черный рот, беззубый.
— Туту! — крикнул Хилл радостно. — Туту, пришла меня проводить!
— Да, пришла, — выдохнула девчонка, подбегая. Запыхалась вся.
Энтони схватил ее за тощие, твердые плечи.
— Как, споешь мне напоследок?
— Я тебе и когда вернешься спою!
Давно ли эта пташка летала по дворам парижским, пела, задрав головенку, и ей в гаменскую шапку бросали монеты? Давно ли по ресторанам голосила? Гляди-ка, и приличное платьишко на ней! В салоне Кудрун ее приметил важный человек из Америки; он устраивал концерты лучших парижских музыкантов, а к Стэнли — так просто, на огонек зашел. В тот вечер у Стэнли толклась жалкой мошкой Туту, чудила, дергала плечиками, бегала вокруг бильярдного зеленого стола с криками: «Ребята, а дайте я кием двину! Ребята, а дайте я попаду в лузу!». И наконец кто-то сел за рояль, а Туту рванулась, запела.
Запела, и тот американец дар речи потерял: у него на лице только глаза остались.
Бросился тогда к Туту, сгреб ее в охапку: да вы же находка, да я вам — выступленья… Туту слушала недоверчиво. Скалилась в беззвучном смехе. «Я?! В Америку?! Не врите!»
Все правдой оказалось.
Слишком рядом стояла слава.
Смеялась, обнажая в улыбке все зубы, им. Или — над ними?
Мадо Туту, Энтони Хилл. Хилл и Туту. В Париже о них уже говорят. В Париже их ищут; сплетничают о них. Новый рассказ Хилла в «Свободном голосе». Новый концерт этого дьяволенка, малышки Туту, в кафе де Флор! Не слыхали еще? Так услышите!
— Эн, ты едешь…
Он был такой громадный, а она — карликовое деревце.
— Я так решил.
— Тебе это нужно.
— Да. Мне это нужно. И не только мне. Чему-то еще. Знаешь…
Не договорил.
Туту обхватила Хилла обеими руками за талию. Прижалась головой к его животу. Она была ему ровно по пуп. Так смешно.
Игорь чуть не заплакал, видя, как Хилл гладит Туту по растрепанной голове.
— Я знаю, Эн.
— Туту! Спой мне.
— Валяй за рояль.
— А я играть не умею. Давай без рояля.
— Хорошо.
Туту выпрямилась. Забавно было глядеть на нее — куриная шейка, кудлатая головенка, закинутая к потолку, к знаменитой люстре Кудрун. Остров света! Золотая ладья! Время уплывает. О чем ты поешь, растрепанный воробей? Игорь слушал и не слышал. Не понимал слов. Он понимал — льется музыка, песня, и она живет, и она еще жива. Еще жива! Пожалуйста, пой, Туту, пой, пой всегда, ты-то, ты-то не умирай…
«А кто умирает? Пока все живы».
Все еще живы, все еще живы, все…
Когда Туту закончила петь — все молчали. И еще гуще табачного дыма стало.
Игорь в смятении затушил сигарету в бокале с вином.
Какая веселая, озорная музыка, с вызовом! Петушиный гребень красный!
«Она же всем нам… прощальную песню спела».
Пако Кабесон повез молодую жену на Юг, в Арль, показать ей настоящую корриду.
Почему не отдохнуть, не попутешествовать! Да она же все время отдыхает. Она, привыкшая работать без конца, дрыгать ногами, возиться с учениками, выступать в битком набитых залах! Теперь — затишье. Холодок, ветерок ничегонеделанья, сладкой лени.
— Пако, мне скучно!
— Поедем — развеешься. Юг любого развеселит!
Ольга не верила.
Уже не верила в веселье; в счастье.
В Париже все считали, что молодая русская танцорка счастлива — шутка ли, сделать такую партию! Богат Кабесон, даром что ростом — козявка. Мал золотник, да дорог!
Собирались долго, тщательно. Ольга затолкала в сумку свое старое черное аргентинское платье, в котором танцевала в Буэнос-Айресе; танго-туфли на высоченном каблуке, ярко-красные, с блестками. Пако косился. Мыл, вытирал тряпкой кисти.
— Почему ты не танцуешь? Мне бы хоть разок станцевала!
Молчание обдало колодезной водой. Ольга всунула в зубы мятную дамскую сигаретку. Пако брезгливо вырвал сигарету из губ жены.
— Я не люблю целоваться с табачной фабрикой!
Ольга чуть не плюнула в него.
В Арль добирались на своем лаковом новеньком авто — Пако купил в подарок Ольге: новейшая модель, «Opel Olympia», благородно-серый, цвета шкуры мышастого дога. Горячий ветер бил в лобовое стекло. Кабесон превосходный шофер. Она жена знаменитости! Ей все это снится. Нет, это явь; и не будет ей конца.
Жмурилась на солнце. Внутри все было ледяным, постылым. Сердце будто ноябрьская шуга обтекала. Нева, широкая, родная, черное зеркало страшного неба, где ты? Здесь и реки-то другие: воркуют, как голубки.
В Арле остановились в самом шикарном отеле. Мальчик-мулат быстро, ловко мыл пропыленный в дороге «опель».
Глядеть корриду отправились в античный амфитеатр.
* * *
Черный бык, ало-золотой тореро.
Пыль в воздухе, сухая солнечная пыль.
Арлезианки обмахиваются веерами. Потные колечки иссиня-черных кудрей на лбу, на висках. Густоусые, дочерна загорелые мужчины пьют вино из горла, зелень бутылей грубого, толстого стекла просвечивает солнце. Рубахи темны, мокры под мышками. Запах пота, роз, вина, залитого звериной и человечьей кровью песка.
Пако молчал, кусал губы. О чем она думает, эта загадочная русская балерина? У них в России неверных жен, кажется, бьют.
«Да ведь она мне не изменяет!»
Он понимал: она изменяет ему со своей родиной.
Тореро резво взмахнул мулетой, одно неслышное движенье, и черная кровь обильно заструилась по холке быка, тяжелыми темными каплями падая на песок арены. «Вот так же и я… Игоря… или это он — меня?.. убил… и бросил… Кто убийца? Я не знаю. Я была с другими… там, в Буэнос-Айресе… мне было все равно… с портовыми грузчиками… пила… бутылками текилу пила… я тоже была — как мадам Мартен — Мать Зверей!.. да звери эти были — люди…»
Бык упал на передние ноги. Уткнул рога в песок. Страшное мычание, почти человечий вопль. Он умирал. И Ольга смотрела на его смерть.
Обернулась к Кабесону.
— Пако, я не буду с тобой. Я не могу с тобой. Ты хороший, но я не могу.
По лицу Кабесона текли морщины, как слезы.
— Лоло, ты хочешь любовников? Возьми. Возьми этого тореро, пока он жив! Я… напишу вас обоих! Моя лучшая картина…
Ольга молчала, и он понял.
— Вернешься… к нему? К своему шулеру?
Плюнул. Кровь кинулась в лицо.