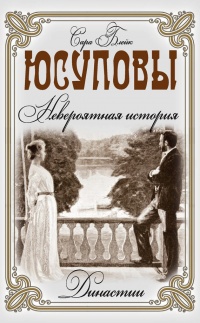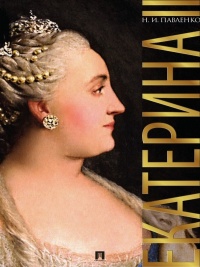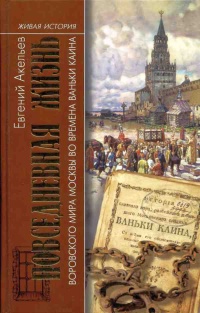Книга Окаянный престол - Михаил Крупин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Кучум оказался сух и сохранил дыхание. Отрепьев долго первенствовал, но и на сорванном царёвом меринке Корела вышел нолём. Царь опять куролесил в седле, даже орал на атаманова друга — впустую.
— Но что, что?! Почему опять?! — ужасно потом удивлялся, хороня досаду. — Выкладывай, что за волшебство такое?
Кони их шли теперь шагом.
Атаман всё рассказывал спокойно: как мягче сидеть, как не тянуть, а «на зёрнышко» поддерживать рысь поводом, как «нести перёд», не задерживая коню бёдра.
— Вот как? — моргал и щурился Отрепьев. — А я думал, наоборот! Я-то как раз не так учён...
— Учё-ен! — смеялся Корела. — Тогда, государь, может, меня ещё и обойдёшь! Я-то... Трёхгодовалым на коня-бахмата батька посадил да огрел его плетью, вот и вся наука. Дескать, убьётся — неча и жалеть, а усидит, — значит, толк будет!
— Отец твой тоже был из атаманов? — спросил царь.
— Вряд ли... Наверно, старожилец просто. Я его плохо помню. Потом старики, кунаки его, сказывали: он был из твоих дворян.
— Вот-те на! Ты что ж это — дворянского роду? — захохотал Отрепьев.
— Не хотел тебе сказывать, — пожалел равнодушно донец. — Заставишь ещё служить по долгу, а не вольной волей, да уж ладно... Испомещен он был под Тулой, под Орлом ли... А в заповедные-то Ивановы лета все его мужики сели в лодку да и вниз по Дону понеслись... Тятька ну их ловить, скок тоже на вёсла — ату! Да вот беда — нагнал их только за Красивой Мечью. Смотрит, мужички его к лунёвскому табору уж пристают, лунёвцы их встречают — дело слажено, назад не отдадут. Недолго думал тятька. Куда ему назад: в недоразодранные перелоги, к подьячим в клешни? — плюнул да к той же станице пристал.
— Тульский помещик? А как же ирозванием-то? Корела?.. Корелов?.. Вроде не слыхал...
— Всяко не так!.. Кто на Дон от вас уходит, старое прозвание навеки скидывает. Я и сам в непонятии. Отец, какого роду мы, ни мне, ни прочему живью в степи не докладал... Так что, когда доведётся, уже чистое казачье племя зачну.
Отрепьев слушал, радовался: он, оказывается, не так одинок. Своевольно сводили линялое таврение прежних неважных имён — ради новых крылатых ристалищ — неисчисленно многие.
— С тебя, значит, яко от Рюрика или Авраама, свежий народ поведётся? Корелов род? — с удовольствием завидовал Дмитрий. — Слушай, а откуда это? Давно думал спросить. Что за явно северное имище?
— Да это мы когда в Курляндии Борису против шведа помогали...
— И там побывал?!
— Зелёнчик был совсем ещё, чур чуркой. Вот, а местечко, сельщина там, где стояли мы, — Корела и речка Корела. Полюбилась мне там одна девчонка, хорошо, легко так полюбилась... И она как-то вроде прикипела ко мне... Смешная, важная, по-русски ни бельмес... Я уж и не знал потом, как и отделаться-то от неё.
Корела снял гроздь с близко подошедшей к большаку рябины да закусил, вместо ягод, рассеянно листок.
— На пути домой ребята веселились: да оглянись хоть раз, видна ещё твоя Корела! Труси, труси уж назад, отпускаем... А я, дурак, ярюсь! А эти волки пуще!.. И дома-то потом, кто ни помяни, ну за любой причиной, этот край, все уже ржут и глядят на меня. Так и пристало слово, хуже молодой смолы...
— А что ж не взял женщину-то с собой? — пытал Отрепьев. — Взял и увёз бы...
— Совсем хотел было! — тряхнул головой и выгнул усы над губой, кислясь горючей ягодой. — Совсем было собрал.
— Так. И что?
— Да тут ветер какой-то задул. — Казак вынул рубчатый лист изо рта и с удивлением посмотрел на него.
— Как, как ты сказал? — Отрепьев невольно прибрал повода, чтоб конь не всхрапнул. Андрей чуть сутулился в седле.
— Ну ветер, ветер...
После летних дел Тургеневых и Шуйских Басманов вёл спокойные дознания, без удивлений, пытал мало. Упрочил охрану — свою и царя, по вечерам махал со стремянным в паре мечом, ел много, холил тело — и не поправлялся... А уже безрассудно боялся, что одна душа, без глухих опор тела, вот-вот под тяжестью державшегося на её плечах гордого живота государства не выстоит и упадёт, сверху рухнет безжалостное государство, душа разлетится на тысячу мелких осколков по свету — ни черти, ни ангелы не соберут...
Дабы быть, как и прежде, храбрым, Басманов старался теперь не оставаться один, более действовать, мельче думать. Раньше утрами боярин свято нежился в постели, теперь он с силой отжимался с ложа, напоминая себе в сотый раз: «Такова судьба всех важных полководцев, и Александр Святой выкалывал глаза своим новгородцам, а уж сколько русских косточек укротитель Мамаев перекрошил, и прикинуть страх!..» За день Басманов так себя старался заморить, чтобы едва коснуться головой подушки — уже спать. Он и не ложился, пока не начинал на ходу кивать и мести грудь бородой, что петух индусский... Не успев добормотать «На сон грядущим», пресно исчезал...
Только в одну ночь воевода так и не заволокся веками — в ночь после тайного венчания повелителя и Ксении. Он всё лежал и видел — вокруг трёх слабых свечек в голостенной каморе над извинным погребом — златотканого владыку Игнатия, прислуживающих ему при таинстве еретиков весёлого Виториана и тихого, преощутимо отдающего южным вином, но горько трезвого Никиту. Видел невесту, светлое виссонное пятно, тревожного Отрепьева, предельно следящего, чтобы совершалось всё по истине и чину: возгласы, венцы... На лице царя всё увеличивается чувство неладности сотворяемого тут и вдруг восторг догадки — понял, понял, «что» неправильно!
— А ты в Бога не веруешь! — указывает радостной свечкой жених на венчающего патриарха.
Не успевая потерять великого спокойствия и доброты, Игнатий разжимает бороду — приятную греческую губку: «О боги! Откуда узнал?!»
Отрепьев вытолкал архиерея в сени, придержав лишь на пороге, чтобы через голову сорвать с него стихарь и отнять другие знаки облачения, необходимые для свадебного чина. Воротившись, царь решительно протянул всё Владимирскому, но ворожей был иеромонахом, сразу замахал руками. Тогда царь предложил торжественное облачение Вселенскому, тот с поклоном благодарно принял и возложил всё оное на Басманова, единственного истово православного мужа, вернейшего чада Церкви из находящихся тут. В первый миг Басманову здесь почудилось страстное кощунство, но, снова глянув в лица всех оставшихся в приютной полутьме людей, опомнился и... потерялся. Он как-то хотел объяснить всем тайное своё недостоинство для такого воздушного дела, но — ужасный скрежет, кажется, слышимый не только им, от поехавшей высокоплитной и краснобашенной тяжести по его плечам, вот — по хребту... Когда это всё отвалилось, Басманов как будто повис в луче слабого солнца...
Он грубо, местами свирепо, читал акафист, внутри весь дрожа от радости. Коряво поводил иконой над своими новобрачными и их честным счастьем. Особенно опрятно подавал вино, ломал всем хлеб и ел почему-то сам этот хлеб со всеми... Потом заплакавшей невесте дали подышать — откинули виссон. Сидели, обсуждали всякие весёлые дела на океанах, небесах и сушах и чувствовали, что обвенчаны.