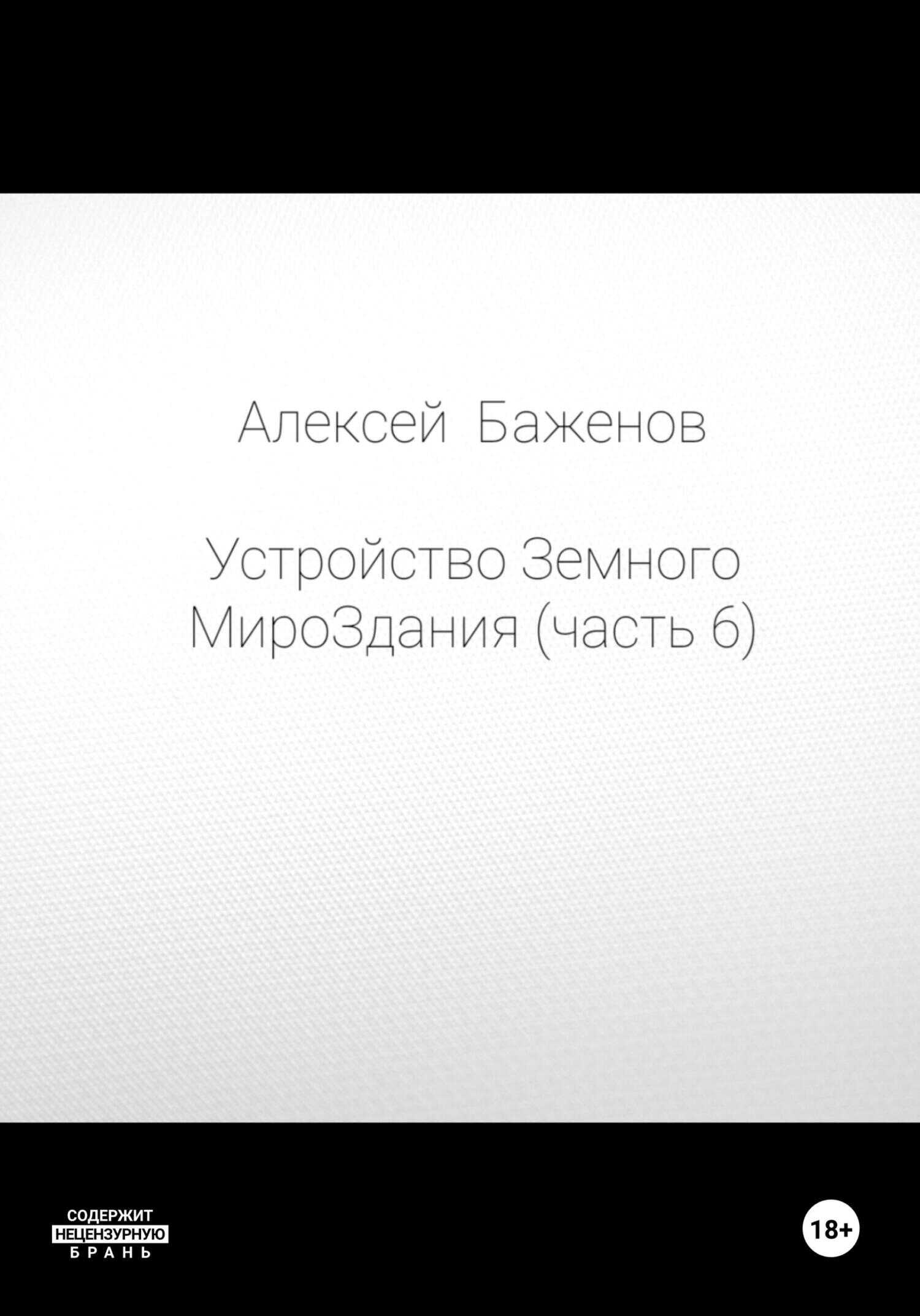Книга Бархатная кибитка - Павел Викторович Пепперштейн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я стоял там в оцепенении, под серым небом межсезонья, завороженно уставясь на эту собаку и на эти полупустые клетки с остатками овощей. Вероятно, на мне было полутеплое детское полупальто, лыжная шапка или ушанка, слегка влажная от небесной мороси, и демисезонные полуботинки – мне представляется сейчас что само слово «демисезонный» полностью исчезло вместе со всем советским миром, хотя, может быть, я не прав и оно до сих пор употребляется, это слово.
И тут неимоверное стало происходить с моим сознанием. Такого рода переживания с трудом поддаются описанию или же не поддаются вовсе. Не знаю, с чем это можно сравнить – с буддийским просветлением, что ли? Вряд ли нечто подобное испытал Будда, когда он увидел труп нищего у врат дворца. Хотя мне об этом ничего не известно.
Грубо говоря, мне как бы открылось единство всех вещей. Точнее, приоткрылся тайный уровень их глубинной осведомленности о природе друг друга. Мир собаки и мир овощей казались такими взаимно чуждыми! Собаку не интересовали овощи, вся ее спина и жирный загривок, каждый волосок на этой спине и этом загривке словно бы вопили о ее бездонном равнодушии к овощам. Так же и овощи инертно лежали в своей грязи, игнорируя присутствие собаки всеми своими округлыми телами, от замызганной шкурки и вплоть до сладкой сердцевины, где бродили живые и свежие соки подземных угодий. Собака существовала в режиме ожидания, она (как и я в тот миг) поджидала того, кто привязал ее здесь. Но овощи не ждали ничего, они просто валялись. И, по всей видимости, их не волновало, что им уготовано: медленное гниение в полях и на овощных базах или же упругое растворение в горячем супе. Развилка, выбор между двумя вариантами их судьбы – холодным и горячим – все это не беспокоило их. Я чувствовал отчасти, что собака иерархически располагается ниже овощей, она ведь только имитировала свою отрешенность. Равнодушие этой собаки в отношении овощей казалось напускным. Да, они не могли живо заинтересовать ее, они не казались ей ни соблазнительными, ни опасными. Вроде бы они воплощали в восприятии этой собаки бессознательное представление об абсолютном нейтралитете, и все же собака знала о том, то пребывает в присутствии королей, в присутствии богов. Это неравенство выражалось в том, что овощи никак не подражали собаке, а вот собака подражала овощам. Именно поэтому она демонстративно сидела в грязи, усадив свою жирную жопу в слякоть, якобы столь же равнодушная к превратностям материального мира, как и овощи. И все же, в том созерцании, которое спонтанно развернулось предо мной, собака и овощи соседствовали, как два слова в коротком предложении. Два слова, связанные союзом «и». Что же это за фраза? Что это за сакральная мантра?
Собственно, речь идет о названии данной главы. О коротком словосочетании: собака и овощи.
Глава тридцать пятая
Медиум и сомнамбула
Если говорить о мальчиках (а впоследствии юношах) моего поколения, то надо признать, что мальчиш-кибальчиш в пору моего отрочества полностью вышел из моды. Целиком истребился в качестве объекта для подражания (в качестве «ролевой модели», если пользоваться мудацким психологическим сленгом). Соответственно, почти всеобщим объектом для подражания сделался мальчиш-плохиш.
Никому не хотелось становиться героями и вообще «хорошими парнями», все (ну, то есть почти все) искренне стремились быть плохишами. Ну а уж какими именно плохишами и в каком смысле – это каждый понимал по-своему. Некоторые мои ровесники настолько продвинулись в направлении нешуточного и нарочитого плохизма, что в целом это сложилось в довольно сомнительную мордашку моего поколения.
Но все же, по большей части, плохизм моих ровесников оставался игровым и игривым. Сам я не стремился быть ни кибальчишом, ни плохишом, но все же я отчасти являюсь персоной своего поколенческого разлива, а все тогда вожделели приключений, понимая эти приключения прежде всего в духе «похождения плохишей». И приключения действительно случались в диком изобилии. Уж такая это штука – приключения, стоит лишь пожелать их, как они сразу и происходят. Впрочем, если даже их не желать, они все равно происходят.
Некоторые мои ровесники мужского пола с течением лет постарались избавиться от тяги к плохизму и как-то «исправились» – кто-то с помощью религиозных практик, иные же сделались полезными членами человеческого общества, или же страстно полюбили животных, или стали солидными и заботливыми отцами последующих детей. Но были (и остаются) неисправимые, закоренелые.
Одним из неисправимых, можно даже сказать неизлечимых и сугубо закоренелых плохишей был мой приятель, наделенный в те годы ангельско-иконописной внешностью, которого назову в этих записках Алешенькой Литовцевым. Должен признать, что этот паренек несколько раз сыграл достаточно судьбоносную роль в моей тогдашней жизни.
Познакомились мы с ним, когда нам было лет по одиннадцать, и знакомство состоялось в писательском доме творчества «Малеевка» морозной, блестящей и белоснежной зимой. В Малеевку мы ездили редко и всегда в эпицентре зимы. Дом творчества пребывал на отшибе, в каком-то подмосковном краю мироздания, в белом доме с колоннами, напоминающем своей архитектурой тот белый дом, что изображен на долларовых ассигнациях. То ли перестроенный барский дом девятнадцатого века, то ли сталинская имитация барского дома, возведенная на средства Литфонда для писательских креативно-рекреационных нужд. Короче, блаженное, восхитительное местечко. Бескрайние поля вокруг, укрытые бескрайними снегами. Хрустящая хрустальная белизна до горизонта, отягощенная лишь маленьким черным парком вокруг псевдоимения. Ежедневные скольжения на лыжах по этой белой пустыне. У меня были тогда черные эстонские лыжи «Пярну» – я их обожал.
Да, Малеевка, зимние каникулы, снега, лыжи, веселые прогулки в санях. Скрипучее скольжение без обмана.
Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки…
Бубенцы звенели, а вот огоньков было немного – разве что какие-то дальние угасающие деревни за горизонтом событий.
А внутри дома с колоннами текла размеренная писательская жизнь. Но, поскольку время было каникулярное, в изобилии имелись дети – «деписы», как мы все тогда назывались. То есть «дети писателей», которые в свою очередь разделялись на сыписов и дописов (сыновья писателей и дочки писателей).
Среди прочих сыписов и дописов встретился мне мальчик с личиком иконописного ангела, худенький, внешне просветленный, с огромными и как бы святыми глазами, красивый какой-то почти сусальной красотой.
Все взрослые, которые его не знали (особенно женщины), впадали в молитвенное умиление при виде этого отрока. Внешность эта была не просто обманчивой – она была вопиюще обманчивой! На самом деле это был не мальчик, а ходячий пиздец. Более опасного и непредсказуемого озорника и хулигана, чем Алешенька Литовцев, наверное, еще не видели подмосковные снега. Естественно, мы молниеносно подружились.
Отец его был писатель, впрочем, уже умерший. Алешенька жил с мамой, в высшей степени интенсивной женщиной, обладавшей могучим материнским темпераментом, создававшим вокруг мальчугана вихри заботы и контроля. Но контролировать Алешеньку было невозможно. Все эти материнские вихри, раскаленные, как щипцы палача, оказали на детскую психику какое-то очень и очень неправильное воздействие – в общем, к своим одиннадцати годам это был законченный оторвыш. И он сразу же вовлек меня в цепочку своих авантюр. И не только меня. Образовалась у нас как бы маленькая банда – три мальчика и одна девочка. Вскоре мы вступили в состояние войны с другой бандой деписов: эти были старше, в районе шестнадцати, и их сообразовалось человек под десять: парни и девочки. Среди них уже вовсю летали сексуальные флюиды, они все уже там изо всех сил обжимались и ухлестывали друг за другом. Нас все это очень привлекало, и мы страстно хотели влиться в эту тусовку, но нас отшили в качестве молокососов. Типа, валите отсюда, детишки. Алешенька Литовцев решил, что мы должны расквитаться за такую обидку.
И мы расквитались.
Произошло это чуть ли не в новогоднюю ночь. Случилось незабываемое деяние под названием «Срыв спиритического сеанса». Мы разузнали, что старшая группа, которой мы объявили войну,