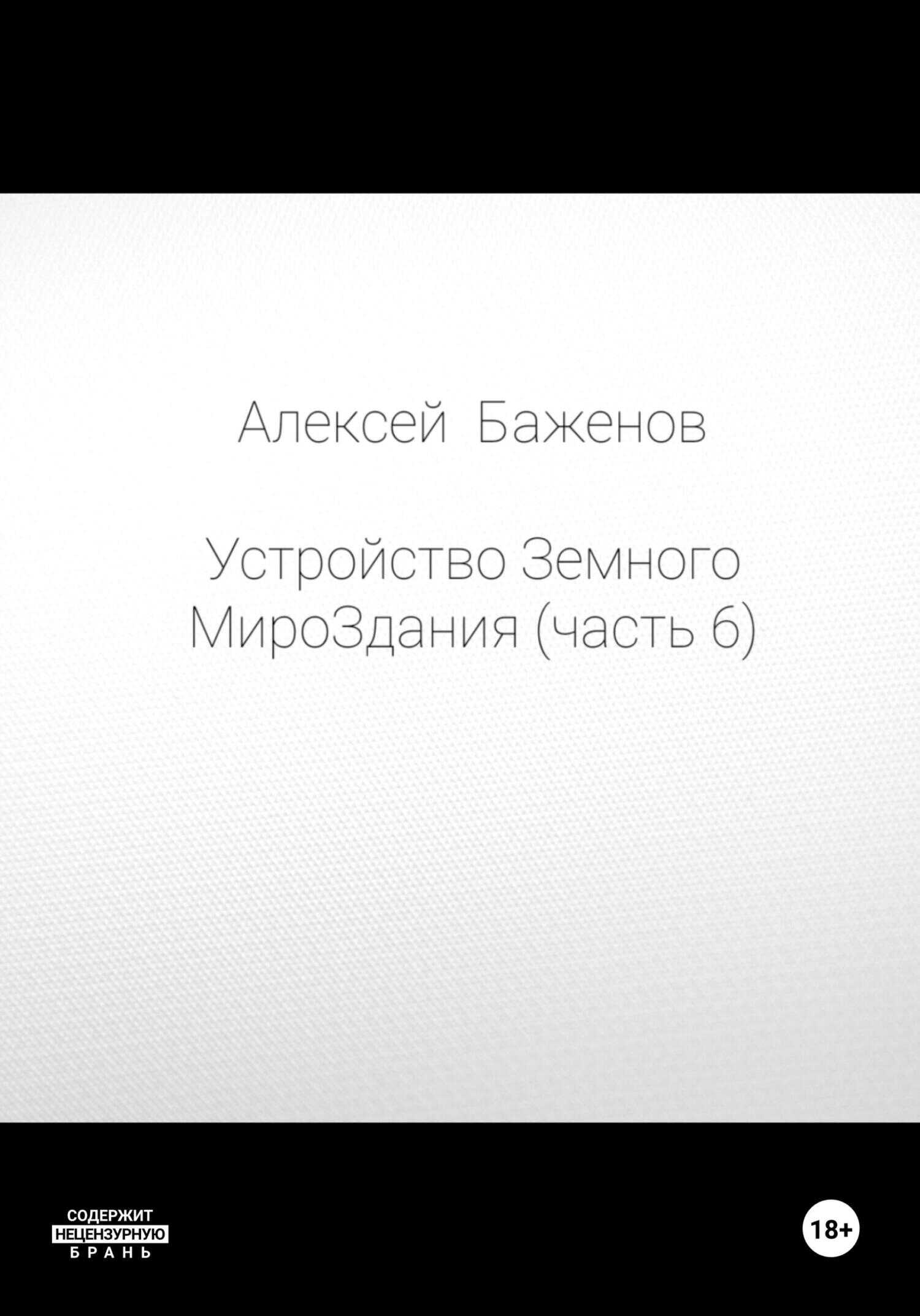Книга Бархатная кибитка - Павел Викторович Пепперштейн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Представляется нелишним рассмотреть то особое состояние жизни, которое образуется в подмосковном Доме творчества писателей. Здесь сразу же надо отметить, что рассматриваемое нами состояние не имеет ничего общего с атмосферой южного дома творчества в летний сезон или же с любым иным домом творчества в период каникул, когда состояние приближается к курортному и дома писателей наполняются отдыхающей и развлекающейся публикой. Я здесь намерен рассмотреть конкретно дом писателей в Переделкино, где провел достаточно много времени. Следует сказать о первом впечатлении, которое я испытал когда-то, сидя в холле дома творчества и обедая в писательской столовой. Переделкино удивительно напомнило мне атмосферу в санатории «Берггоф», описанном в «Волшебной горе» Томаса Манна. Впрочем, здесь нет роскоши сдобного пирога: все аскетично, скромно. Нет здесь манновской манящей роскоши манного зиккурата, облитого марципаном и альпийским снежком. Однако чувствуешь себя отгороженным от мира: все мирское осталось где-то внизу, «на равнине», – здесь же, «наверху», действуют свои, иные законы, правит особый дух, оставляющий свою печать на каждом, кто более или менее долгое время провел здесь. Впрочем, слишком увлекаться сходством с «Берггофом» не следует: это сходство скорее внешнее, относящееся к области самозамкнутости, самодостаточности этого места. Однако если обитатели «Берггофа» – больные, каждый из которых содержит в себе зловещий «влажный очажок», то здешние жители – литераторы. Их объединяют не очажки туберкулеза, но некое иное занимательное заболевание. Больные на «Волшебной горе» развлекаются, едят, меряют температуру и подвергаются лечебным процедурам – писатели работают. Сидя днем на лавочке в саду при доме творчества, можно почти из каждого окна услышать липкий стук пишущей машинки. Кажется, здесь кипит творческая деятельность, кажется, быт дома писателей не составляет содержания их жизни, а служит лишь обрамлением их творческого процесса. Однако наблюдатель, который рассматривает дом творчества не совсем со стороны и не совсем изнутри, то есть ходит к завтраку, обеду и ужину, ждет вечером своей очереди звонить по телефону, играет с писателями в шахматы, но не принадлежит к этому клану людей и не собирается к нему примкнуть, может различить некоторые общие черты, характерные для духа, обитающего в этих стенах.
Жизнь больных в санатории «Берггоф» проникнута безнадежностью, они не надеются на излечение, они упиваются своей безнаказанной свободой, полученной ими по соизволению грядущей смерти. В Переделкино же никто не свободен, здесь не знают летящего сладкого состояния обреченности, почти все здесь – надеются. Лишь немногие здесь потеряли надежду и бесцельно влачат свое существование, остальные – надеются. И эта беспокойная надежда заставляет здешних обитателей лихорадочно спешить после завтрака в свои комнаты, заставляет их ревновать, гордиться, завистничать и злопыхать. Чему же они служат, на что надеются, чем они заняты? Они обольщают мир. Уйдя от мира, они не забыли о нем, не презрели его, как обитатели «Берггофа». Наоборот, все их мысли, все их разговоры о том, что происходит вовне, за стенами дома творчества, там, «внизу». Однако сам по себе мир их не интересует. Они почти не думают о нем. Их занимает только одно: как мир относится к ним, какими глазами он смотрит на них оттуда «извне». Они напоминают даму, которую не слишком занимает вопрос о том, что представляет собой ее поклонник, однако ее бесконечно занимает его отношение к ней, она ловит и оценивает каждый взгляд поклонника, комментирует каждый его жест, делает выводы из каждого слова, обращенного к ней. Соответственно, она, ревнуя, внимательно следит за тем, как он беседует с другими женщинами. Тем же наполнена жизнь переделкинского писателя. Что собой представляет мир – неважно, но требуется, чтобы он полюбил его, писателя. Что внутри у мира? Какое писателю до этого дело, если все равно придется вытеснить все это и заполнить образовавшийся вакуум собой. Чем же они обольщают мир? Ложью, надо полагать. Мир хочет быть обманутым – так гласит латинское изречение. Да, мир хочет быть обманутым, упоенным ложью, влюбленным. И почти каждый обитатель дома творчества – кандидат на место объекта этой влюбленности.
В каждой комнате, в каждом номере переделкинского дома писателей зреет, растет, бережно лелеемая, заботливо подкармливаемая ложь, которая должна покорить мир. Ложь космическая или земная, изредка подземная, еще реже – драгоценная. Иногда спасительная, иногда ненужная. Ложь талантливая или бездарная, выдаваемая за правду или бравирующая тем, что она – ложь. Злая или добрая, гнусная или уютная, увлекательная или скучная. Обитатели дома творчества растят этих существ, встревоженно спешат по своим комнатам – как бы не забыть прибавить весу растущему гомункулюсу. И дитя требовательно призывает своего кормильца и растителя – зовет его к себе стонами, всхлипами, урчаниями, хохотками и свистами не вполне родившегося повествования.
Герой «Волшебной горы» проходит искушение смертью, его соблазняют свободой безнадежности. Наш воображаемый герой, оказавшийся в доме творчества «Переделкино», может быть искушаем ложью, вернее, трепетной надеждой покорить мир посредством лжи. Он видит многотрудное прекрасное служение лжи, перед ним шныряют бесконечно озабоченные, наполненные смыслом служители ее. Обитатели дома творчества отнюдь не идеалисты, считающие, что мир существует лишь в их взгляде. Напротив, они, безусловно, наследники Гёте, который как-то раз сказал Шопенгауэру: «Напрасно вам кажется, что мира не существовало бы, если бы вы его не видели. Наоборот: это вы бы не существовали, если бы мир вас не видел».
Да, они хотят существовать, они хотят, чтобы мир видел их, они прихорашиваются и кокетничают в луче этого взгляда. И в тишине своих комнат растят свои произведения – словно заботливые мамаши дочек.
А потом они повезут их на бал, чтобы соблазнить одного-единственного жениха – брезгливый, надменный, впечатлительный, суетный, привередливый и холодный мир.
Глава тридцать четвертая
Собака и овощи
Позднесоветские продовольственные магазины часто служили объектом иронии или критики. Их либо стыдились, либо высмеивали – даже в советском юмористическом журнале «Крокодил» нередко публиковались умело нарисованные карикатуры, бичующие бесхозяйственность, разгильдяйство, пьянство грузчиков, вороватость и хамство продавщиц, цинизм заведующих овощными базами и прочие прискорбные аспекты общества товарного дефицита. Но я должен признаться (в том числе и самому себе) в глубоком и безусловно мистическом восхищении, которое эти магазины нередко порождали в моей душе. Особенно это касалось магазинов «Овощи и фрукты». Облик овощей в этих магазинах, а также их непередаваемый запах, сырой, таинственный и как бы слякотный, служили катализатором самых удивительных состояний, которые мне случалось испытывать в этих больших пространствах, где население приобретало картошку, свеклу, капусту, морковь, редьку, курагу, морские водоросли, компотные смеси и прочие алхимические ингредиенты тех мистерий, которые затем разыгрывались на бесчисленных укромных кухнях. Овощи продавались без упаковок, они лежали нагие и грязные, иногда полностью облепленные землей, в больших наклонных ящиках-полках, сколоченных из грубых досок. Первозданный и неотмытый облик этих укромных существ, этих клубней и корнеплодов, отчетливо свидетельствовал о них как о посланцах подземных миров, как о незашифрованных агентах глубин, и любое прикосновение к их телам оставляло тонкий земляной слой на ладонях и пальцах человека, явившегося в этот товарный Храм Земли. Почва бывала сухой или же сырой, она колебалась между пылью и слякотью, но расскажу о своеобразном откровении, которое посетило меня у входа в один из таких магазинов. По всей видимости, родители вошли внутрь, оставив меня у входа и порекомендовав мне дышать свежим воздухом, пока они будут закупать необходимые продукты. Около входа в магазин, слегка в стороне, виднелось множество железных клеток на колесиках, в которых перевозили то ли картофель, то ли какие-то другие овощи. К одной из этих клеток была привязана собака. Довольно толстое, со складками кожи на затылке, животное, покрытое короткой золотисто-бежевой шерстью, сидело, повернувшись ко мне спиной, прямо на земле, глядя куда-то в сторону. Уши были