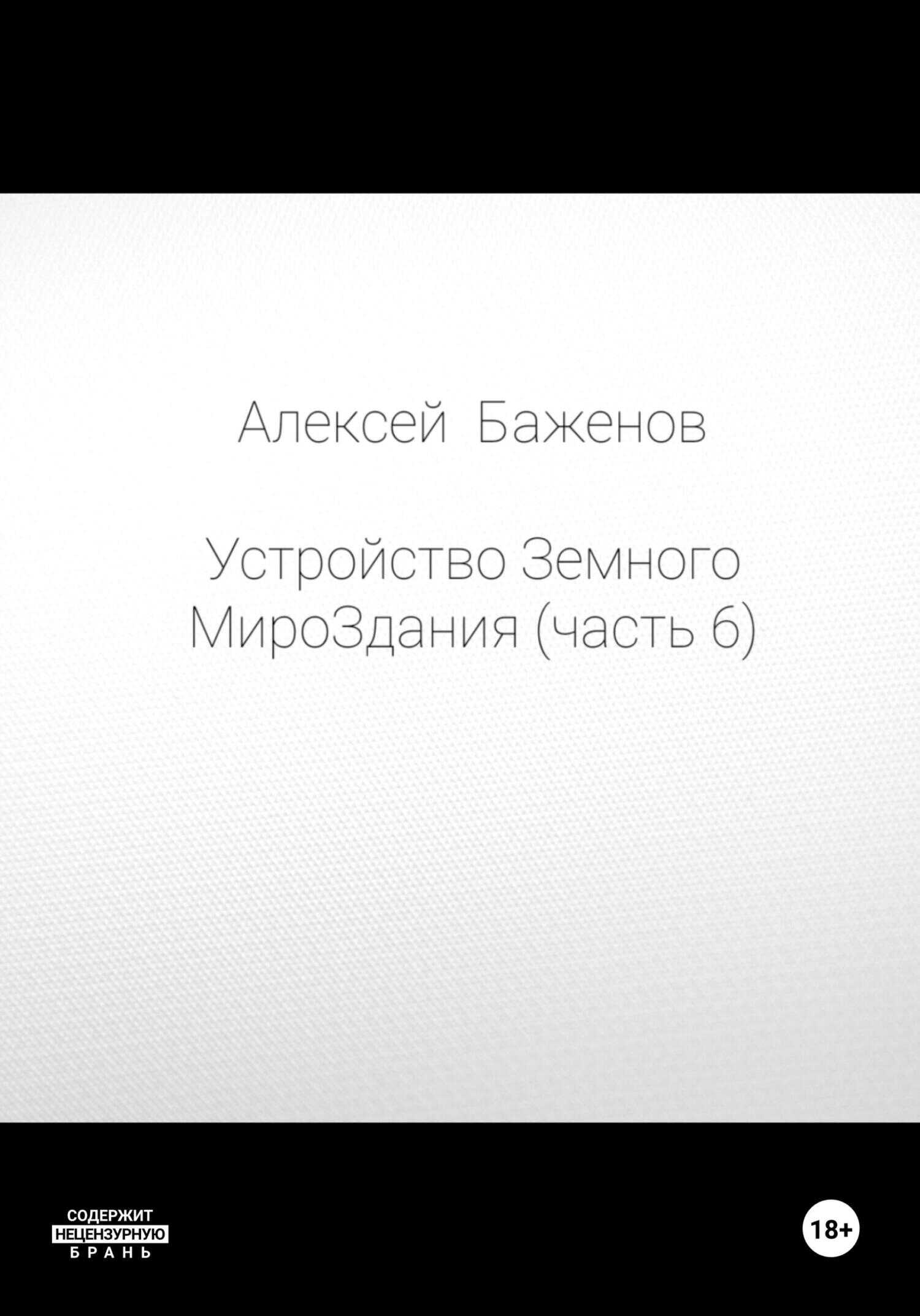Книга Бархатная кибитка - Павел Викторович Пепперштейн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Таким образом драматург был вдвойне обязан Вдякову. Во-первых, за возрожденное общение с женой, а во-вторых, за возвращение творческого процесса в привычные рамки.
Такова была изложенная нам версия этой более чем сомнительной истории. Мы осознали, что ежедневные спиритические упражнения уже изгнали из этого занятия даже слабый оттенок таинственности, а если он и сохранился, то его всячески пытались сгладить нарочито обыденным и непосредственным поведением. Наконец мы все, за исключением женщины с «Ундервудом», прикоснулись к донцу блюдечка подушечками пальцев, и драматург, не повышая голоса, так же печально и просто спросил: «Ты здесь, Лиза?» Блюдце тут же двинулось по бумаге с легким, невесомым шорохом. Кто-то вскрикнул. Кто? Может быть, сиплый мужчина с растерянным ртом?
Переползая с необычной скоростью от одной буквы к другой, блюдце вывело слово «Давно». Мы не сразу поняли, что это должно означать, пока до нас не дошел леденящий смысл этого высказывания – она уже д а в н о присутствовала в комнате. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил драматург. Ответ был: «Маленькая сморщенная обезьянка на розовом кусте». Прозвучало еще несколько вопросов, на которые последовали столь же косвенные, даже несколько игривые ответы. Некоторые ответы имели форму рифмованных стихов неряшливого звучания.
Буква присоединялась к букве, и то, что стихи открывались перед нами так медленно и постепенно, делало их еще более странными.
Я прошу прощения у своих читателей, но сейчас последует некое повторение только что прозвучавшего текста. Я не смогу объяснить вам необходимость данного повтора, поэтому прошу поверить мне на слово: этот повторчик необходим.
Оказалось, что Вдяков уже много лет занимается спиритизмом, так что может считаться, по его словам, медиумом. Познакомившись некоторое время назад, по чистой случайности, с драматургом, он нашел его в состоянии уныния, вызванного смертью жены. Вдяков, выступивший, по его выражению, в роли «врачевателя ран», намекнул, конечно, со всей возможной деликатностью, на существующую возможность общения с умершей. Драматург некоторое время колебался и суеверно оттягивал этот, вызывающий сомнения, опыт. Однако в конце концов недоверие было преодолено, и первая попытка оказалась удачной. Определенные особенности разговора, до боли знакомые словечки и обороты речи, характер интонаций и другие приметы, присущие жене драматурга, вкупе с подробностями биографии, о которых Вдяков никак не мог знать, окончательно убедили драматурга, что он снова общается со своей умершей супругой. Сеансы повторялись, делались все более и более частыми, их отсутствие вскоре начало ощущаться драматургом болезненно, так что через некоторое время драматург предложил Вдякову проводить теплые месяцы года у него на даче, разумеется, совершенно бесплатно. Таким образом сверхъестественное общение сделалось ежедневным, постепенно утратило все аксессуары таинственного обряда (ночное время, окружающая тьма, горящие свечи, глухо зашторенные окна, благоговейная тишина) и стало обыденностью, чем-то вроде чаепития или прогулки.
Вдяков указал нам, что мы должны, держа руки на весу, слегка прикоснутся кончиками пальцев к донцу блюдца, к его несколько шершавому нижнему ободку, где кроваво ветвились несколько красных иероглифов, напоминающих отчасти раздавленных насекомых. Сначала нам казалось, что мы не сможем длительное время держать руки на весу, не опираясь локтями о стол и в то же время не опираясь кончиками пальцев на край блюдца. Однако впоследствии мы убедились, что это не так трудно, как нам почудилось вначале. Или же возбуждение, которым мы были охвачены, перечеркнуло все телесные неудобства. Наконец все присутствующие, сидящие вокруг стола, протянули руки к блюдцу, находящемуся в центральной окружности, и почти что коснулись его подушечками пальцев. И драматург, не повышая голоса, просто и несколько печально спросил: «Лиза, ты здесь?»
Блюдце тут же двинулось по бумаге с легким невесомым шорохом. Признаться, мы, настроенные отчего-то на долгое благоговейное ожидание, были одновременно испуганы и несколько разочарованы этим быстрым откликом блюдца. Стремительно, как нам показалось, переползая от одной буквы к другой, блюдце вывело слово «Давно». До нас не сразу дошел леденящий смысл этого высказывания – она д а в н о присутствовала в комнате. Несмотря на испуг, кто-то из нас нервно рассмеялся.
Не станем отрицать, что мы были смущены и растеряны. С одной стороны, наше любопытство было чрезвычайно возбуждено, а ощущение, испытанное нами при первом движении блюдца (мы совершенно отчетливо почувствовали его внутреннюю наполненность, почувствовали, как электризуются наши слегка дрожащие пальцы, находящиеся в тревожном общении с невесомым, но сильным энергетическим сгустком), было весьма сильным. С другой стороны, мы все еще обладали некоторой внутренней отстраненностью, которой весьма дорожили и которую боялись потерять, вступив в непосредственный диалог с блюдцем. Нам казалось, это могло быть воспринято как своего рода капитуляция. Кем воспринято? Самим блюдцем? И перед чем, собственно говоря, капитуляция? Какая еще капитуляция?
Глава тридцать третья
Импровизированное эссе
В конце 1983 года Илья Кабаков, Иосиф Бакштейн и Михаил Эпштейн написали серию импровизированных эссе. Условия игры были такие: они собирались в мастерской Кабакова, выбирали тему, и затем каждый из них должен был написать эссе на избранную тему, уложившись в заданное время. Кажется, на написание эссе выделялся час. Мы с моим другом Антошей Носиком постоянно околачивались в тот период в кабаковской мастерской, так что стали свидетелями этой увлекательной интеллектуальной игры. Мы немедленно решили последовать примеру наших старших товарищей. И тоже написали целый сборник импровизированных эссе, следуя правилам, изобретенным троицей старших интеллектуалов. Нам с Антоном было тогда по семнадцать лет, и мы, естественно, тоже были интеллектуалами – молодыми, но не лыком шитыми.
Недавно, разбирая свой архив, я нашел свое эссе из той серии. Эссе, посвященное Дому творчества писателей в Переделкино. Интерес к Переделкино последнее время несколько возродился в связи с попытками снова вдохнуть институциональную жизнь в это место, которое на протяжении долгого времени казалось угасшим и полузабытым. Поэтому я решился включить в данный роман то давнее эссе, датированное двадцать шестым апреля 1984 года.
Какими глазами я сейчас прочитал этот текст, написанный семнадцатилетним мной? Эссе неплохое, в нем даже присутствуют кое-какие элементы детской проницательности. Я ощущаю в этом тексте влияние эссеистики Томаса Манна, которым я в тот период увлекался. Диалог Гёте и Шопенгауэра похищен из одного манновского текста. В то же время семнадцатилетний автор лучше удавится, чем согласится показаться сентиментальным. Текст эссе (отстраненный, даже несколько снобский) умалчивает о том, как сильно я обожал Переделкино. Умалчивает о том, как же все-таки там было немыслимо приятно находиться. Магию этого места я постарался передать в некоторых моих более поздних рассказах (например, в рассказе «Яйцо»).
Тогда, весной 1984 года, мне казалось, что я пишу о реальности чрезвычайно прочной – настолько прочной, что она и меня переживет. Но я ошибся. Через несколько лет эту реальность развеяло в пыль. В юношеской своей гордыне я приписал советским писателям некую космическую лживость. Сейчас это звучит наивно. Нынче мне кажется, что все эти многочисленные советские писатели-официалы (а также поэты, драматурги и прочее) создавали совокупными усилиями некий Гипертекст, необозримый, тусклый, но при этом грандиозный. В наши дни книги, написанные этими людьми, лежат в кафе, используемые (как и все прочие книги) в качестве элементов интерьерного дизайна. Книги