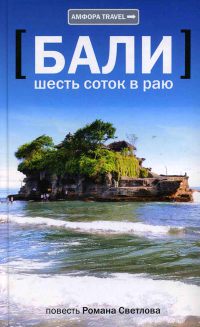Книга Седьмая печать - Сергей Зайцев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Да как же враг, если он народ этот освободил?
— Не спорю, освободил. Только на словах. Освободить-то освободил, а землю бедноте не дал. Ограбил он крестьян при «освобождении». Выкупные платежи были назначены непосильные. Налоги — не налоги, а удавки. Что делать народу с этой свободой, если ему не от чего прокормиться? Только и остаётся, что свободным подыхать. Помещики им землю не отдают. Ты это лучше меня знаешь. Наверное, слышала разговоры в Дворянском собрании...
Надя подумала, что слова о Дворянском собрании были произнесены Митей не просто так; должно быть, уколоть её хотел, и, быть может, потому хотел уколоть побольнее, что в самодержце она врага не видела, потому что относительно «свободы» русского народа сомневалась... проведя несколько месяцев с Бертолетовым, всё ещё сомневалась. Но уколоть у Мити Бертолетова не получилось, поскольку Надя верно поняла ход его мыслей и истолковала для себя слова его в смысле необидном.
Он между тем продолжал, говорил горячо и довольно громко, не очень-то беспокоясь о том, что его мог сейчас слышать кто-нибудь случайный:
— Помещики крестьянам землю не отдают — ту самую землю, какую сами никогда не обрабатывали, ту землю, которой крестьянин знает на ощупь каждый клочок и каждый комочек которой своим солёным потом полил и на какую уже по одному этому имеет больше прав, чем помещик, барин. Помещики продают землю богатеям, спекулянтам, тем же банкирам, — Бертолетов взглянул на Надежду испытующе и как бы с укором. — Или я не прав? Вы, Станские, свою землю продали?
Надя не могла не признать:
— Да. Это верно. Мы землю тоже продали.
Бертолетов был убеждён в своей правоте:
— Многие хитрые перекупщики — мошенники без чести, без совести — нагрели себе руки на этой реформе. Так всегда бывает на сломах времён, на смене эпох: много болтовни, много несправедливости, много горя, недодуманные реформы и наживающиеся на них торжествующие жулики всех мастей... Однако это не будет продолжаться вечно.
Он был, пожалуй, как пророк сейчас. Как непризнанный, как гонимый пророк — страдающий, презираемый, но правый. Бертолетов смотрел ясным задумчивым взором в перспективу канала, в темнеющую под далёким мостом синь и будто видел то, чего сейчас не видел никто, и это увиденное преобразило его, подействовало на него вдохновляюще, улыбка озарила лицо...
Надежда в эту минуту увидела знакомую карету, проезжающую по мосту:
— Едет!..
Карета, съехав на набережную, повернула влево и уже через несколько мгновений приблизилась к ним. Один из солдат, привстав с козлов, нахлёстывал лошадей, и те бежали всё быстрее.
Бертолетов повернулся к карете спиной и достал хронометр. Отщёлкивая крышку, оступился, пошатнулся и в неловкости этой шагнул на проезжую часть.
Солдат с кнутом увидел его, солдат зло заулыбался, предвкушая развлечение. Топорщились закрученные геройски усы. Лошади, воротя ошалелые глаза на кнут, грызя удила и роняя слюну, готовы были перейти с рыси на галоп; они гулко ударяли в накатанный снег копытами. Громыхали полозья. По обе стороны кареты разлетался облачками голубоватый иней.
Вскинув кнут, солдат навис над Бертолетовым:
— Ну, слепош-ш-шарый! Жить надоело?.. Посторонись!..
Кнутовище взмыло ещё выше к небесам, оглушительно щёлкнул кнут — ударил Бертолетова, пересёк ему наискось спину. Надя вскрикнула и невольно отпрянула от кнута; но получилось — от Бертолетова. Возможно, удар кнута был не очень сильный — для острастки только, для видимости; возможно, через пальто Бертолетову даже не было больно... Но унизителен этот удар был до жути. От сознания унижения, от вспыхнувшего гнева у Бертолетова потемнело в глазах.
Лошади вихрем пронеслись. Удаляясь, быстро уменьшалась и серо-голубая спина солдата. Перед застывшими взорами Мити и Нади поплыло широкое окно кареты. Ахтырцев-Беклемишев без всякого внимания смотрел на ряд зданий на другой стороне канала; подполковник даже не заметил, что его солдат хлестнул кого-то.
Надя ничего не сказала Мите, но ей было стыдно, что она отпрянула от него — будто предала. На душе у неё было бы спокойнее, если бы этот удар она с любимым разделила.
Глаза у Бертолетова горели:
— В нормальном обществе, в обществе будущего, в обществе всеобщего равенства и уважения разве может такое быть?.. — он задал вопрос, не требующий ответа. — Всё, Надя. Седьмая печать сорвана... сорвана... сорвана... — в горячке, в гневе, в некоем исступлении Митя Бертолетов повторял это и повторял; луч закатного солнца отражался тревожным багрянцем у него в глазах.
В это время какой-то человек прошёл мимо — поджарый, с высоко поднятым воротником, скрывающим лицо. Повёл длинным носом в сторону Бертолетова и быстро отвернулся — глаз его не видели.
ровернув дважды ключ в замке, Магдалина открыла дверь.
То, что в других квартирах называлось прихожей, здесь не было собственно прихожей. Это была всего лишь достаточно просторная площадка возле входной двери, не ограниченная стенами, — площадка с вешалкой, стойкой для зонтиков, табуретом и пр. Площадка-прихожая заканчивалась тремя ступеньками, по которым следовало спускаться в квартиру. Но и собственно квартирой то помещение, в котором очутилась Магда, назвать было нельзя. Более подходило именно это название — помещение. Подходило оно по двум причинам: во-первых, потому, что не подходило никакое другое, ибо этот объём, низкие своды которого укреплялись мощными арочными перекрытиями, невозможно было назвать ни «квартирой», разделённой на комнаты, ни тёмным «подвалом», устроенным глубоко в земле, ни тем более «залом», просторным и высоким; во-вторых, потому, что в помещении этом именно помещалось нечто... А то, что в нём помещалось, Магдалина увидела сразу, едва закрыла за собой дверь и спустилась по ступенькам.
В самом центре этого помещения, освещённая солнечными лучами, падающими с улицы через полуподвальные, узкие окошки, помещалась... гора. Два невообразимо огромных, дивных даже, шарообразных основания горы занимали целый диван — от валика к валику, упираясь в эти валики, наплывая на них массивными уступами сверху и грозя весь диван на стороны развалить. Груди этой женщины, для коих ни одним портным ещё не был сшит лиф, ибо ни один портной даже в кошмарном сне таких грудей не видел, — неправдоподобно длинные и плоские, — покрывали спереди необъятный живот; груди её — мякитишки — опавшим, перестоявшим тестом на живот наползали; под грудями этими её худосочный супруг, наверное, мог бы найти себе укрытие в минуту опасности, он мог бы надёжно спрятаться под этими грудями от многих жизненных невзгод и мог бы жить под ними счастливым отшельником, в тепле и покое, отгородившись от суетного мира...
Гора, увенчанная низким покатым лобиком, смотрела прямо на Магдалину, гора улыбалась, весёлые глазки её блестели над румяными полянами щёк. Задорно топорщились вверх кустики-усики. Гора эта была как языческое божество, требующее поклонения.