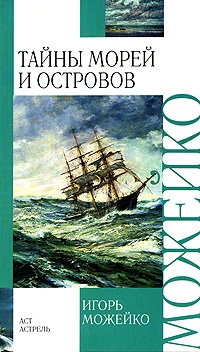Книга Гана - Алена Морнштайнова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Этого я не знаю, но зато буду со своей семьей. Сначала повестку получили мой муж с сыном, но я попросила, чтобы меня тоже записали. Не могу же я отправить их одних.
Мама оглядела переполненный чердак.
— Думаете, там будет лучше, чем здесь?
Наша соседка помолчала, а потом несколько высокомерно ответила:
— Гетто как гетто. Неужели может быть еще хуже?
В тот же день бабушка Грета с дедом Бруно получили такую же полоску бумаги. Мама не могла оставить больную мутти Грету и попросил а, чтобы ее записали в тот же эшелон на восток, что и родителей. Гетто как гетто, повторяла она мне слова. сказанные той красивой женщиной.
Почему же она тогда мне запретила попроситься на тот же эшелон? Почему твердила мне, чтобы я постаралась продержаться в Терезине как можно дольше?
Красивая пани с тонкими пальцами оказалась учительницей музыки. После рождения сына она бросила выступления и стала-давать уроки игры на фортепьяно на дому. Когда я на следующий день провожала свою семью на эшелон, я видела, как она под руку с мужем и сыном, которому было не больше пятнадцати, явилась на сборный пункт, где всех еще раз обыскали. Она была напугана так же, как мои мама, бабушка и дед и сотни других людей, теснившихся в этой шмонал ьне.
Там я в последний раз обняла своих родных и смотрела, как они медленно под тяжестью чемоданов, ставших после приезда в Терезин чуть легче от изъятых вещей, бредут обратно в Богушовицы, чтобы снова сесть на поезд и продолжать путь на восток. В гетто поговаривали, что дальше ходят только деревянные теплушки для скота, которые когда-то возили своих пассажиров на убой. И якобы вагоны набиты до отказа. Мне не хотелось верить слухам, но эта картинка врезалась мне в память, и я не могла от нее избавиться.
Я смотрела, как бабушка Грета тяжело опирается на дедушку Бруно и на маму, видела, как мама в воротах последний раз обернулась, но не знаю, успела ли она меня заметить. Я стояла там, пока ворота не закрылись.
— Когда все закончится, мы все снова встретимся дома. — Это было последнее, что я услышала от мамы.
Моя мама всегда говорила правду, даже если эта правда была неприятной. Но тогда в Терезине она лгала. И мы обе это понимали.
С той минуты я осталась совсем одна.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Мезиржичи, лето 1945
Я размяла ослабевшие ноги, осторожно встала и потихоньку вышла с вокзала.
Я словно шагнула в картину, которая висела у нас в гостиной над диваном. Я смотрела вокруг и все узнавала. Улицы и дома, деревья и небо над ними. Вдохнула знакомый запах, в лицо мне светило солнце, и летний ветерок приподнял уголок платка. Со всех сторон меня окружили звуки. Гул машин, стук каблуков, приглушенный говор, пение птиц, шум листвы на деревьях. Все было знакомо — и одновременное совсем чужое. Ибо я была не с этой картины.
Город не изменился, но я, я стала совсем другой.
Я побрела по улицам в сторону площади, уткнувшись взглядом себе под ноги. Только время от времени останавливалась передохнуть и оглядывала этот чужой город, в котором двадцать шесть лет назад я родилась. Люди обходили меня стороной: кто-то — просто не замечая, другие — с досадой. Наверняка они думали: что за странная женщина стоит посреди тротуара и мешает проходу? Когда-то мне было бы это неприятно. Теперь все равно.
Я надвинула платок на лоб и заставила себя сделать следующий шаг. Одну ногу вперед, другую, и не думать о том, что будет дальше. Ведь так я и прожила целых три года.
Я добрела до лавки деликатесов, куда до войны я заходила иногда съесть пирожное с кремом и поболтать с Ивой, тогда еще Зитковой. Я так ее любила раньше. В ней была какая-то искра, она думала, что имеет право брать от жизни все. И так и поступала.
Но сейчас мне не хотелось думать о том, что произошло… Когда? В прошлой жизни? С кем?
Мне нужно было отдохнуть. Перед «Деликатесами» стояли два столика, покрытые клетчатой красно-белой скатертью, и деревянные стулья. За одним устроилась пожилая пани с маленьким мальчиком. Он довольно болтал ногами и лизал мороженое. Я села к другому и вытянула больные ноги, сумку положила на соседний стул.
— Чего изволите?
Я не сразу поняла, что женщина в фартуке обращается ко мне. Я посмотрела на нее. Машкова или Пашкова… как-то так. Хозяйка заведения. Она была знакома с моей мамой и всегда передавала ей привет. Кланяйтесь матери, Ганочка…
Не меняя вежливого выражения лица, хозяйка повернулась так, чтобы нас не было видно от соседнего столика или из лавки, и прошипела:
— Если вы не собираетесь ничего заказывать, освободите столик, пожалуйста.
Я устала и давно привыкла, что люди меня прогоняют. Я уставилась на столешницу. Машкова или Пашкова схватила мою сумку и швырнула мне на колени.
— Уходите, пожалуйста. Тут нельзя сидеть. Вы отпугиваете посетителей.
— Воды, — сказала я.
— Воду? У нас нет воды. Только лимонад. Будете лимонад?
Я кивнула, и Машкова-Пашкова с досадой повернулась на каблуках и поплыла в лавку. Мальчик за соседним столиком заляпал рубашку, и бабушка вытирала ее платочком. Потом послюнявила платочек и вытерла малышу рот. Я встала и снова пошла к площади.
Я свернула направо у пивной на первом этаже, уже посреди дня набитой завсегдатаями, откуда несло дымом, пивом и мочой, перешла дорогу у аптеки и направилась к реке. Каменный святой Валентин, стоящий на пьедестале у подножия моста, уже целых два столетия оборачивался через плечо. Наверное, он долго меня выглядывал, а теперь удивлялся, неужели это правда я, и почему я иду так медленно, неуверенно и совсем одна.