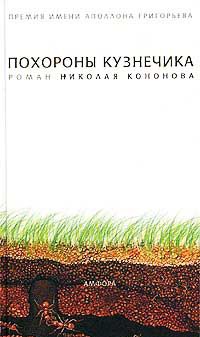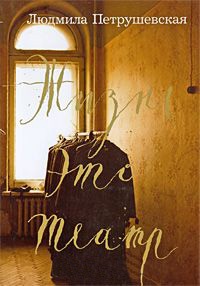Книга Нежный театр - Николай Кононов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В пяти метрах от нас у бревна глубоко забывшийся сползший на теплый песок Толян. И я не переставая ласкать Бусю, все-таки скашивал глаза на его отчужденную фигуру, на эманируемую им сладкую опасность, на его тело, замедленно сворачивающееся в позу зародыша. Уже устроившего для вечного беспробудного сна руки под щекой. Пес сворачивается в гурт рядом с ним.
Я гляжу на него словно из остекленной прорези водолазного костюма, так как понимаю, что принадлежу совсем иной среде, куда он не будет допущен ни за какую плату.
Деньги, чтобы оплатить вход туда, он должен будет выиграть.
Сразу. В один кон. Без расчета.
Снедаемый лишь сухим жаром азарта.
___________________________
Мы заночевали в пустом домике, высушенном как древняя рыбина, на полу, затянутом слоем мягкого ила, нанесенного сотней паводков. Запыленное оконце мутилось бесконечной далью.
В липком свете керосиновой лампы мы пьем травяной чай. Мягкую, пахнущую затхлостью воду Толян принес откуда-то из далекого колодца. Буся раскладывает на рябой домотканой подстилке снедь. Это опять рыба, пироги с визигой, вареная картошка, крупные помидорины. Мутноватая наливка в кефирной бутылке.
Малек вернулся затемно.
Засопел, перегородив собой низкий выход. Будто он отрезал по наущению Буси и Толяна все пути к отступлению. А я и не собирался отступать, так как не воевал. Но я не был и жертвой. Так. Просто так…
И ночью между нами произошло то, что и должно было произойти.
То, к чему мы все трое придвигались, плывя по протокам и кореннику, забираясь в ерики. К сумрачному смыслу жизни, повязавшему навсегда всех троих. Меня, Бусю и Толяна.
Подробности небледнеющим огнем оплавляют меня. Вламываясь в меня, видимые, пахнущие и осязаемые, они оказались мне совершенно ни к чему. Безглагольный мир ночи, разбросанный как сумасшедший пазл, собирался в смыслы, которые не имели к дневному языку никакого отношения.
Потому что никакие детали не смогут никому предъявить того нового, занявшегося во мне вещества, которому предстоит всегда снедать меня. Во мне словно есть тонкая прослойка горючего глубокого торфа.
Это происшествие обречет меня на фундаментальное одиночество, на тупые поиски, на тщетные обретения, которые, кроме нового одиночества, ничего мне никогда не принесут. Побитые оконца не застило позднее время. Они так и протемнели серым штапелем, и этот свет ничего не сообщил моему зрению.
Так вот. Подразумевая особую точность этих ночных просветленных часов, я поставлю отточия.[60]
………………..
………………..
Ведь все между нами вышло без единого слова, почти…
…………………
…и мягко и одновременно тесно сидящая на моих бедрах светящаяся изнутри женщина снова разогревается, впитывая собою влажное каление мужчины, лежащего на боку рядом, я его почти не вижу, но всей кожей догадываюсь о нем, на меня волной идет его дышащее тепло
……………….
…вот его кисть соскальзывает с Бусиной качающейся поясницы, легко съезжает, опадает с расщелины ее ягодиц на мое бедро, колено. И я чую своим совсем не детским, а довозрастным телом, как она суха и плотна, она неслышно шуршит, легко гладя меня, будто откуда-то изнутри ерошит вороха конфетти, – с самой достоверной изнанки моего младенческого возраста
………………………………………..
…я уверен, я чувствовал во тьме, словно стал летучей мышью, что вот – уже и вся женщина начинает светиться, глубоко вибрировать, как влажная сквозящая пневма, вбираемая гармонью, когда только-только разворачивают мехи, где нет и не будет ни одного звука
……………………………………………
…не оставляя меня, переходила она, перегибаясь, к нему, лежащему поодаль, словно она – сумрачный, едва различимый в жаркой тесноте вымпел, и я, обретая, проигрываю ее без тени азарта.
…я только слышал их травяной, но такой влажный шум…
– Помоги же ему, – едва прошептал кто-то из них…
– Ну…
Эти единственные слова, произнесенные за всю ночь, застыли как предмет, как ваза, на которую так похож ночной силуэт человека, занятого любовью. Это слово заныло во мне, как ожог.
Будто год сдвинулся со своей оси.[61]
В этих сумерках я был способен лишь дышать, вздыхать, веять.
Им в ответ.
Это были единственные доступные мне звуки, тем более, что на них, восходящих из меня, никто не должен был отвечать. Мое отчаяние чудилось мне пароксизмом самообладания. Ведь действительно – их нежность и ласка принадлежали лишь мне, и я всецело с несказанной легкостью тоже обладал ими. Они – мои недостижимые Люба и Толян, мои неотъемлемые, о, единоутробные, словно бесконечно давно обретались во мне, в моем чрезмерном сердце; они, став атомами воздуха этой каморки, заполонили и меня.
Но осязать и касаться их я уже не мог.
Я что-то прокричал.
Кого-то позвал из самого себя, из своей отвердевшей каменной утробы.
На древнем языке бесстыдства и алчбы, в котором только тождества и совсем нет глаголов. Весь, заискрив, я наконец неудержимо подобрался проскользнул и вспыхнул и мгновенно с шипением оплавился. Меня затрясло.
Во мне ни осталось ничего, будто я перестал побуждать себя к жизни, – словно исчез…
Маленькая робкая мысль сверкнула мне:
– Господи, как же я буду без них…
Ну как же?
…………………….
На этот вопрос отвечать уже было некому.
……………………….
Я подсчитал – в каждой точке этой ночи – умещается по три сердечных удара.
– Первый, глухой, как далекий движок безнадежно угнанной лодки. С недостижимого берега.