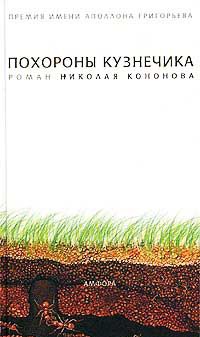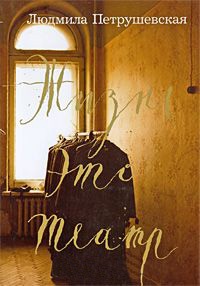Книга Нежный театр - Николай Кононов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Второй – абсолютно бессмысленный и непорочный, как мелкая неутихающая волна.
– И последний – резкий, деревянный, – будто на безлюдной почте заколачивают небольшим молотком тюремную посылку. (Ведь самого-то себя я слышал лучше всех.)
И эта ясность вызывает во мне волну замешательства – изумительную, стыдную и счастливую. Ведь я все-таки выжил. И в этом последнем глаголе я хочу поменять «и» на «а». Так как я все-таки сам поднял себя, выжал, как отчаявшийся атлет.[62]
Я оказался в волшебной внутренности, каковую мне никогда не поименовать полостью.
Там было сокрыто все.
Там не было пустоты.
– Моя ласковая мать, наделенная единственным, присущим только ей, прекрасным обликом, ласкающая меня.
– Там обитал и мой не виноватый ни в чем отец, тянущий ко мне крепкую руку словно для рукопожатия, чтобы поддержать и ободрить меня.
И я вошел в самого себя, позабыв о себе.[63]
И сколько бы лет, все сильнее отупляющих и притесняющих меня, с тех пор не прошло, но я точнее не могу объяснить своего чувства.
Утренний свет, рассеивающий все то что произошло ночью, действительно тихо и ласково втиснулся к нам – и через мутное маленькое оконце, и полураспахнутую косную дверь, чуть задержавшись на спящей поперек порога собаке. Я перешагнул темное тело животного. Оно чуть подалось в мою сторону, вздохнув с бессмысленным сожалением.
На спящих я старался не смотреть.
Я осознал их вид, лишь когда вышел наружу. Они ведь засветили во мне небольшой, но яростный лоскут эмульсии. На этой фотографии, полной робости и красоты, они лежали спиной друг к другу в одинаковых позах, специально отвернувшись, – между ними была натянута зеркальная непрободаемая плева. Натянута именно в том самом месте, где ночью был я, отделяя их друг от друга, и с тем же усилием воссоединяя.
Но на той, сугубой, моей сокровенной фотографии их не было…
Единственное, о чем я подумал – как же я там уместился, в той щели?
Но ночью совсем иные масштабы, веса и меры, сообразил я.
Я увидал их легким боковым зрением.
Словно я – насекомое или рыба.
Посредством помутившейся оптики, откуда-то сбоку, в меня еще беспрепятственно проникают видения.
Этим зрением никого, а их в особенности, невозможно угнетать, унижать разглядыванием. Ведь такой глаз нельзя смежить, и то, что я им видел, никогда не станет для меня аффектом и травмой. Я захочу туда вернуться, так как не уверен, что это было со мной.
Иногда мне снится сон. Особенный сон соглядатая. Он меня волнует. Как будто я еще там и мне не понятно – как же оттиснется на их коже мое изображение в ночном безволии и доступности. Оттиснутся руки, ладони и язык. Как я их трогал и целовал.
____________________________
Месяц, проведенный в Тростновке, как оказалось, не уменьшил тот заурядный год на себя, а удесятерил его переизбытком моей невеликой жизни. Тем, что я пережил, тем, чем я, наконец, не стал, но оказался. С тайной заодно. С тем, чем я буду шантажировать себя всю жизнь, ничего не оплакивая и ни о чем не сожалея.
Солнце уже встало, но не выкатилось из-за плоского горизонта. Еще не было теней, так как они в замешательстве не успели присоединиться ни к чему. Это длилось какой-то миг. Но я его заметил.
Ни одно ружье не целилось в меня.
Ни одна стрела. Ни одно копье.
Утром, пробудившись, никто не зевнул, так как ночь была проглочена и поглощена целиком.
В сизой пустоте стекленело тело реки, не осуждая меня и не радуясь мне. Я понял, что так больше не будет никогда.[64]
Так тихо, что кажется – шум должен где-то обретаться, меня будто преследует возможность его проявления. Жесткая листва осокоря, стоящего в отдалении, шевеление пыли под кошачьими лапами, след от самолета, взявшийся невесть откуда в чистом небе – всего лишь вымученные декорации происшествия, бывшего не со мной. Из меня что-то вынули, и все, что окружало меня, слишком ничтожно. По мне будто провели смычком – и я загудел, приняв навсегда это касание – у меня возникло прошлое, которое не пройдет. Вот – я стал мужчиной. Все дело в этом обременении.
Старая школьная тетрадка, исписанная мелким добросовестным почерком, туча ошибок, простодушная аккуратность. Вклеенные квадратики газетных заметок. Подчеркивания. Все пестрит синими и красными графиками-столбцами. Синие – холода, вёдра. Красные – жара, нега.
Стоя по щиколотку в тишайшей воде, я перелистывал ее, изредка встречая робкие замечания и соображения. В конце каждого расписанного по градусам, силе ветра и калибру осадков месяцу была покоробленная вклейка – о погоде, народонаселению, политике, прочей бесценной чепухе.
Я медленно шел по отмели.
Вот что я читал тогда, точнее выхватывал мой глаз из пустого перечня изжитой ничтожной жизни:[65]