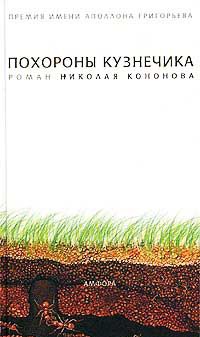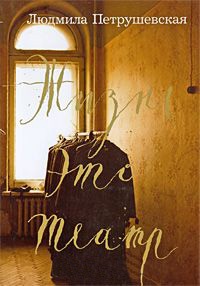Книга Нежный театр - Николай Кононов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мне чудилось как она все время шептала эту фразу.
Я и вправду не умел. А она будто открывала во мне форточку. Словно в пустом классе перед экзаменом, только потянув на себя мое одеревеневшее тело как хрупкую фрамугу, и вот-вот я должен навстречу ей распахнуться с волнением войти в самого себя – в пустое помещение.
Все, что происходило между нами дальше, легко можно было прочесть в любой бодрой книжки, вычитая мое тело из календарных свойств дня. Но дело все в том, что во мне росло странное чувство, и я из бодрых книжек так про него узнать ничего не смог.
Вот в нем-то и все дело. Как и в том, что первая настоящая ласка в моей жизни оказалась связана с запредельной декорацией и глухим угрожающим натиском чужого ненужного мне бытия.
Вот они.
– Наступающая темной армией, накатывающаяся на меня из воздушной скатки невротическая гроза.
– Обуревший, вырубившийся парень в нескольких шагах от нас. Он уже почти целиком сполз на песок. Развернувшись в дугу.
– И мое чуткое понимание самого себя, присутствующего тут, в этой среде, точнее в этом времени.
Я постигаю собой, из себя, из своих распахивающихся жил – новый не мой мир. Всем – электрической эпидермой, еле-еле сдерживающей новую судорогу. Блуждающим взором, видящим и язвящим все. Скользкой слизистой рта, простирающейся сразу за моими губами, выворачивающей меня наружу, как умирающего жильца разломанной раковины. Мощно, одним мановеньем желанья.
Ведь она не дарила мне себя, она не была со мною мягка и податлива, а просто присвоила меня как законное наследство, которого надо дождаться. И вот она дождалась, вступила в права. И могла уже делать со мной что угодно. Забить мне в рот кляп, прикасаясь к языку, губам и деснам только своим языком. Связать кисти рук своей жесткой волей, не связывая их. Даже задвинуть в мой анус кол, сквозь весь кишечник, преодолевая сопротивление круглых мышц, чтобы я умер. Ей ведь стоило только захотеть. И судя по всему – она хотела, так как наследства ей пришлось ждать слишком долго. Моей длинношеей. А мне хотелось только одного – чтобы она не переставала хотеть меня. Любым способом, избранным ею.[58]
Я отошел на глубину, я поплыл.
И чувство конца, полное невладение собой вошло в меня – вместе с ее сухим, сильным языком. Которым я тогда захлебнулся. И я не могу до сих пор сказать, где он побывал, так как слова ничего не смогут обозначить кроме моей слезной топографии, заливаемой жарким паводком.
Я вмиг разучился плавать на мелководье и ездить на взрослом двухколесном велосипеде.
Ступор, в который я был вплавлен Бусей, и негнущиеся латы, будто возложенные ею, ввели меня в чудную скованность. Время, соскользнувшее на меня с ее тела, обернуло меня как влага купальщика и повернуло все вспять.
Я ею рождался. Я изымался ею из мира смутности и неотчетливости, где прибывал.
Ведь по мере того как член мой поднимался, я сильней и громче слушал шум своего сердца и делался все меньше и меньше, постепенно теряя вообще все сведения о самом себе. Все ссыпалось за мои пределы, как буквы из старых наборных касс. Я словно отряхивался. Я забывался, становился косным и малоподвижным. И, кажется, я входил в нее, только лишь едва ее целуя. Глядя на себя ее закрытыми очами из-под жара тонких желто-золотых век. Главное – я был очень мал, я лишился возраста, веса, прошлого.
Я оставался только тем, чем касался ее.
Я сам бесконечно мал, меня нет, меня нельзя заметить.
Мне уютно мое бытие, так как оно гнездится уже где-то за моей границей.
Я вспоминал только имя – простое и короткое, стоящее облаком во мне – два одинаковых слога.
Я не могу их выговорить.
Больше всего я хотел, вернее не я, а мой рот, еще и еще ее языка, его кружевного вкуса и туманного говора, лучших безмолвных слов, переходящих в мою слюну.
Словно в двух проницаемых словарях в нас все перемешалось.
Я.
Хотел.
Ее плотнеющих сосков под липким трикотажем купальника.
Ее жесткого мелкоутопленного в плоскости живота пупка, (она шепчет: «ниже, ниже, еще пониже» она направляет мою руку, она жужжит как прекрасное вычурное насекомое).
Ее скользкого клитора речной нимфы в отмели жестких волос.
Хотел всего, чем я мог насыщаться, как маленькое опрятное животное, выбежавшее из реки, взятое в невыносимый сладкий полон.
Я ведь захотел, чтобы она меня наконец-то покормила собою.
Чтобы я, наконец, насытился.
Как это когда-то давно, совсем по-иному могла бы сделать моя мать.
Но оставив меня в границах моего беспамятства.
Мне мнится, и я не могу уразуметь – святотатство ли это, но я воплощаю в ней свою мать, и я попадаю туда, где уже пребывал однажды. В самом завершенном устье, полном влаги, оно само скользнуло столь благожелательно навстречу мне. Вот муфта, манжета, а вот – живой молчаливый выступ, уводящий в ее волшебные недра. Где нет и тени скорби, где нет и намека на тесноту и конечность. Этому месту оказались не присущи какие-либо свойства.
Мерное горячее шевеление, становящееся словами. Ее или моей матери. Слова, которых я никогда изустно не слышал. Только читал в страшных сказках. Они вдруг обросли плотью и волшебно нагрелись:
– Сынуленька, волчок мой.
Я оттого волчок, что в нее вошла вся моя уменьшившаяся во сто крат ладошка? Оттого, что я, выскочив из степи, состоящий из ласки и страха, мог в любой миг улизнуть обратно?
Я понял – мое сердце обожглось о нее. Как и мои руки, и губы.
Когда я про нее наконец-то смог сказать: «вот она – вся».[59]
И если бы мне кто-то в тот миг сказал: вот, посмотри, Толян умирает, то я даже бы не скосил глаза в его сторону.
Загребая песок, шлепая по нему, а потом по отмели, Малек громко лакает воду. Он подходит к Толяну, ложится рядом и начинает лизать его руки. Толян не замечает его.