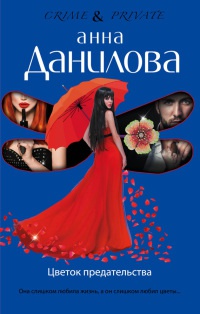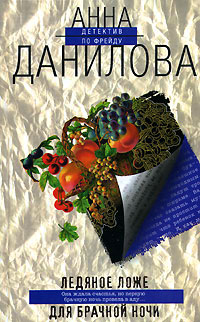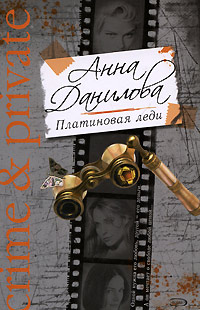Книга Успеть изменить до рассвета - Анна и Сергей Литвиновы
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он кивнул.
— Да, обязательны презервативы. — При слове «презерватив» он снова начал краснеть — я говорю, неиспорченное общество. — В крайнем случае, если супруга вдруг забеременеет, настаивай на аборте. И сам ни к каким врачам лечиться не ходи. Все равно тематика нашей лаборатории совершенно закрыта и таковой еще лет пятнадцать будет. Никакой врач тебе ни в какой поликлинике или больнице ни о чем не скажет. Поэтому помни: если от тебя кто забеременел — только аборт. Все лучше, чем несчастного ребенка растить — да и не вырастет он, умрет лет в четырнадцать, только измучитесь с супругой. Ты хорошо меня понял?
— Да, — вздохнул он.
— Давай тогда иди на свой сопромат. Звонок уж прозвенел. И никому про наш разговор ни слова. А то меня подставишь. И всю нашу лабораторию. Я очень рискую, что тебе открываюсь. Сам знаешь, у нас в стране все передовое с большим трудом дорогу себе пробивает. А ретрограды и перестраховщики всех мастей только и ждут, чтобы новое прихлопнуть. Ты «Не хлебом единым» Дудинцева читал?
— Нет, очередь в библиотеке еще не подошла.
— Там про это. Когда будешь читать, вспомни наш разговор. Иди.
И он побежал, одновременно удрученный, опустошенный — но и радостный.
Я не знал, надолго ли я убедил его своими внушениями. На месяц или на год — возможно.
А если, допустим, он женится — а рано или поздно такие положительные ребята, как он, конечно, женятся, — и лет через десять, году как раз в шестьдесят девятом, его жена вдруг нечаянно забеременеет — как он поступит? Погонит ее на аборт? Или махнет рукой — авось пронесет? И она родит Вячеслава Кордубцева? Будущего морехода, отца Елисея?
Как я мог об этом знать? Никак.
На душе у меня было слегка кисло, что я нагородил столько вранья. Но что мне оставалось делать? Сказать ему, что я человек из будущего, из две тысячи семнадцатого года? А его внук, рожденный в девяносто восьмом, — будущий антимессия? Антихрист?
В том же мужском сортире я снял с себя белый халат, скатал его и засунул в свой несессер.
Потом отнес его, а также историю болезни студента Кордубцева, в поликлинику МАСИ и вернул все похищенное на законные места: халат на вешалку, а карту в регистратуру.
Времени еще и часа дня не было, и я подумал, что раз уж подвизался тут, в пятьдесят седьмом, менять будущее и улучшать прошлое — почему бы не попытаться воздействовать еще в одном направлении?
А именно: я отправился на Киевский вокзал и взял билет до станции Мичуринец.
Когда‑то, лет пятнадцать назад (или сорок пять вперед, как считать)… Короче, в начале двухтысячных, когда еще учился в универе, я побывал однажды в доме‑музее Пастернака и хорошо помнил, что ехать к нему лучше до станции не Переделкино, а Мичуринец.
В полупустой электричке я устроился на деревянной скамейке у окна, поставил рядом свой «медицинский» саквояжик и принялся вспоминать.
Итак, сейчас у нас пятьдесят седьмой год. Осень. «Доктор Живаго» уже закончен. Это я почему‑то знал точно. А вот успел его Пастернак передать итальянскому издателю Фельтринелли? Или, может, даже его роман за рубежом успели напечатать?
Нет, Нобелевскую поэту пока не дали. Ее, по‑моему, присудят в пятьдесят восьмом — через год. Лауреатов объявляют осенью. Значит, у меня — да и у поэта — есть еще в запасе целый год.
Когда я думал, как мне к нему подойти — а я, не буду лукавить, исподволь думал об этом едва ли не все время, как попал сюда, — я придумал роскошный повод. Вот только придумать что‑то — не обращала ли ты внимания, Варя? — зачастую бывает гораздо проще, чем воплотить. Или хотя бы продвинуться по пути к воплощению.
Возьмем, к примеру, стихотворение Бориса Леонидовича Пастернака «Нобелевская премия». Совершенно понятно, что сейчас, в пятьдесят седьмом, оно еще не написано. И нигде не опубликовано. Да и не будет тут, в СССР, опубликовано — до самой перестройки.
И поневоле взвоешь, что нет никакого всезнайки‑Интернета, который, хлоп, запросил — и он тебе выдаст текст на блюдечке с голубой каемочкой. И еще пожалеешь, что на четвертом курсе безбожно прогуливал лекции доцента Красовского по русской литературе. Потому что из великого стихотворения в моей головенке болтались лишь начальная строчка: «Я пропал, как зверь в загоне» и еще один куплет:
Что же сделал я за пакость,
Я, преступник и злодей,
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
А дальше… Как я ни бился, вызывая в памяти пастернаковские строки, ничего из меня не выдавливалось, кроме:
«Я пропал, как зверь в загоне,
Где‑то люди, что‑то, свет…»
Ну и?.. Какая хотя бы там рифма к «загоне»? Если я не могу вспомнить, может, попытаться сочинить самому? «На перроне»? «В вагоне»? (Диктовало мне постукиванье вагонных колес.) Или, учитывая контекст премии и то, что, как сейчас говорят, за нее ЦРУ ратовало — «в Вашингтоне»?
Фу, чепуха какая получается! Нет, не поэт я, ни разу не поэт.
Я записал сюда, в мою заветную и сокровенную тетрадку, то единственное четверостишие из середины, что мне с грехом пополам удалось вспомнить, а дальше решил импровизировать по ходу дела.
На Мичуринце прыснул дождь. Я сошел с платформы и зашагал направо, углубляясь в писательский дачный поселок. Ни одного человека на улице и во дворах, только деревянные домики сияют на громадных участках, под сенью сосен — для нашего времени (я имею в виду наше с тобой, Варя) выглядели бы они, эти двухэтажные домишки, скромно‑захолустно, но в пятьдесят седьмом считались эталоном роскоши и богатства.
Наконец показался идущий навстречу человек: в заграничном дождевике, с непокрытой головой, с роскошными седыми волосами. Лицо его показалось мне смутно знакомым — точно писатель. Может, Корней Чуковский? Нет, тот был высоченный, как каланча. Александр Фадеев? Постойте, тот в пятьдесят шестом застрелился. Валентин Катаев? Вряд ли — ведь день рабочий, а у Катаича наверняка хлопот невпроворот в только что образованном им журнале «Юность». Может, Константин Федин?[27]
Не важно. Я остановил прохожего и спросил, где дача Бориса Пастернака.
Тот по‑доброму улыбнулся мне — явно принял за молодого поэта, который, как Вознесенский десятилетием ранее, пришел к живому классику с тетрадкой своих стихов. Подробно, указывая руками, объяснил дорогу.
Я поблагодарил и пошел, помахивая своим докторским чемоданчиком. Я подумал, что встреченный человек показался мне совсем старым — на деле же, не случайно ведь пришли на ум Фадеев, Федин, Катаев, — он им ровесник, лет около шестидесяти. Но тут, в пятьдесят седьмом, что‑то происходило со временем — точнее, с возрастом людей. Те, кому близилось к шестидесяти, казались настоящими патриархами, стариками, мастодонтами. И не только потому, что я, юный, семнадцатилетний, так их воспринимал — но и подобным образом относились к ним все вокруг! Женщина около пятидесяти была, выглядела, чувствовала себя и принималась окружающими как натуральная старуха — много пожившая, повидавшая и годная только сказки внукам рассказывать или, в крайнем случае, передавать опыт на производстве. Как‑то сразу, в противовес, вспомнились подтянутые пятидесятилетние современницы — порхающие по спортклубам и кокетничающие с инструкторами. Мужчины лет сорока пяти — пятидесяти (если выжили они в войнах и чистках) были, как давешний Королев, командирами производства, маршалами или, на худой конец, начальниками цехов. А молодые люди тридцати — тридцати пяти лет — как их война опалила! Чего они в жизни своей только не видывали! Какую кровь, смерть, нравственные выборы, физические тяготы! Не чета нашим тридцатилетним хипстерам, просиживающим в кофейнях и рассуждающим, какой бы им бизнес замутить! Кстати, и мало оставалось их тут по жизни, тридцати‑сорокалетних, — самый удар войны по ним пришелся, по молодым мужчинам двадцатых годов рождения.