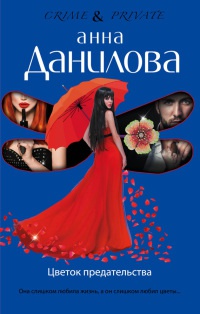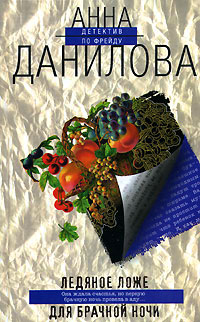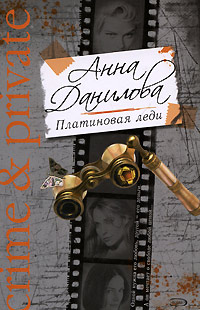Книга Успеть изменить до рассвета - Анна и Сергей Литвиновы
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В размышлениях об этом я дошел до пастернаковской дачи. Я ее сразу узнал — и по снимкам в учебниках, и по единственному своему визиту в дом‑музей.
Почему‑то я был уверен, что хозяин здесь, дома. Он не редактор, как Катаев, не функционер, не тусовщик. В Москве бывает нечасто, здесь, в Переделкино, работает. Переводит, пишет. И возится на участке. Вскапывает грядки, сажает, окучивает. Вот эти самые грядки — посреди участка. Впрочем, сейчас не сезон — они, перекопанные, осенние, ждали следующей весны.
Почти каждый вечер поэт гуляет. И (я вспомнил книгу Димы Быкова из серии «ЖЗЛ») ходит на «малую дачу», к своей возлюбленной Ольге Ивинской.
Я решил не ломиться в дом и ждать. Устроился в сторонке, под могучей, почти облетевшей липой. За моей спиной простиралось широкое поле. Сразу всплыло усмешливое: литераторы называли его «Неясной поляной». За полем, близ железной дороги, возвышались золотые главки церкви. Там кладбище, вспомнилось мне, где совсем скоро Пастернака похоронят. Сердце сжалось.
Дождь, слава богу, прошел, и ждать мне ничто не мешало. Только прохладно становилось в моей куртешке.
Низкий, в пол человеческого роста, штакетник открывал насквозь весь дом и участок. Смеркалось. На втором этаже дачи, в хозяйском кабинете, загорелся свет. Потом лампа зажглась и внизу, на террасе.
Оттого, что хозяин тут, совсем рядом, на минуту захватило дух. Живой поэт, которого я искренне считал лучшим в двадцатом веке. В памяти поплыли, наталкиваясь друг на друга и мешаясь между собой, его строки, большинство из которых он написал здесь, в Переделкино, на этой даче.
…Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка…
…Шестое августа по старому, Преображение Господне…
…Мы сядем в час и встанем в третьем…
…И наколовшись об шитье с невынутой иголкой…
…Никого не будет в доме, кроме сумерек, один…
…Свеча горела на столе…
…Наши плечи покрыты плащом, вкруг тебя мои руки обвиты…
…Гул затих, я вышел на подмостки…
…И ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу…
Ветер и впрямь гудел, раскачивал, как писал поэт, не каждую сосну отдельно, а полностью все дерева. А потом вдруг — утих.
И вот — хлопнула дверь крыльца. Он вышел. И — вы не поверите! Тут же, с темного неба, как бы салютуя создателю «Доктора Живаго», где, как известно, в половине сцен идет снег, с небес сорвались две‑три снежинки. Первые в этом году.
Пастернак прошел по своему саду в сторону калитки. Отворил ее. Отчего‑то мелькнуло: «Голоса приближаются, Скрябин, ах, куда мне бежать от шагов моего божества!»[28] Но нет, нет! Я не испытывал никакого трепета. Да, он лучший, наверное, поэт двадцатого века. Но я‑то — нисколько не поэт. Я не мечтаю и не дерзаю к нему приблизиться или посостязаться. И встречаюсь я с ним, как… Я не мог подобрать слова, в роли кого… Архангела, что ли. (Прости, Варя, за высокопарность.) Хранителя. А значит, в данный момент я чувствовал по отношению к нему не восторженный трепет, а превосходство, что ли. Он‑то не знает, а я‑то — да. И я сейчас постараюсь передать ему это знание. Просветить — и посвятить его.
Когда он вышел из калитки — в высоких кирзовых сапогах, в буклированной светлой кепке, кашне и плаще, — я, прежде всего, поразился: какой он все‑таки старый! Может быть, сказывалось иное, тутошнее восприятие возраста (о котором я только что говорил), а может, поэт объективно был немолод — но да, он выглядел старым. Или, скорее, величественным, патриаршим. Хорошего роста, статный, нисколько не обрюзгший и не рыхлый. Он прошел мимо меня, зыркнув на меня маслинами своих молодых черных глаз. Все лицо его было в мелкую сеточку морщин. Волосы, выбивавшиеся из‑под кепки, сплошь были серебряными. И если кто‑то из соратников называл его похожим на араба и одновременно на его коня, то нынче то был старый араб и старый конь.
— Борис Леонидович! — окликнул я его.
Поэт благосклонно обернулся.
— Борис Леонидович, можно я вам прочту стихи!
— Давайте вашу тетрадь, — сказал он, то ли недослышав, то ли специально переводя разговор от возможной декламации в тихую заводь спокойного ознакомления, под вечерней лампой, с очередным графоманским опусом.
— Нет, я хочу прочесть вам вслух.
Он продолжал шагать вдоль улицы в сторону дачи Федина, и я пристроился с ним рядом.
Я сказал:
— Стихотворение называется «Нобелевская премия».
Я видел лицо поэта лишь краем глаза, но готов дать руку на отсечение, что в тот момент что‑то в нем дрогнуло. Мне показалось — да, думал, думал он об этом! Исподволь рассчитывал, да и выдвигали ведь его — в сорок шестом, по‑моему, и в пятьдесят третьем, безо всякого еще романа!
— Только стихотворение у меня незаконченное. Есть первая строка. И еще одно четверостишие.
Тут‑то Борис Леонидович понял, конечно, про себя, что перед ним явный закоренелый графоман, который запытает его тут, на дачной улице имени Павленко, своими виршами до изнеможения.
— Голубчик, — успокаивающе пророкотал он, — считается непрофессиональным, да и не слишком вежливым читать на публике неоконченные произведения. Вы завершите свой, гм, гм, труд — и тогда я его с удовольствием прогляжу. — Голос его был ясным, молодым, чистым, звонким и чуть‑чуть грассирующим на «эр».
— Нет‑нет, и все‑таки! — упрямился я. — Я — прочту!
Теперь поэт глянул на меня опасливо, как на явного невменяемого — впрочем, после Ларисы Жаворонковой ходить в сумасшедших мне теперь было не привыкать. Итак, я попал в такт его шагов и прочел то самое единственное четверостишие, что твердо помнил:
— Что же сделал я за пакость, я — преступник и злодей, я весь мир заставил плакать над красой земли моей[29].
И тут, сто процентов, лицо его дрогнуло второй раз.
Что‑то почуял он в моей декламации — что‑то невозможно близкое, родное, свое.
Да кто знает, по каким законам живут поэты и в них отливаются строчки?! Может, это четверостишие уже сейчас, задолго до премии и травли, непостижимым образом ворочалось в нем?!
— Вам нравится?
Он дернул шеей, словно конь, отгоняющий овода, и успокаивающе сказал:
— Пока это просто обрывок, определенная сила в нем, разумеется, чувствуется, но по незаконченному трудно судить кого бы то ни было, хотя бы, к примеру, Маяковского…
— Или Пастернака, — ввернул я.