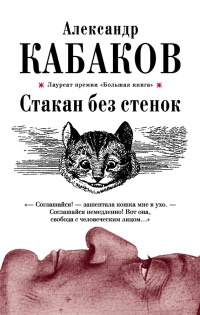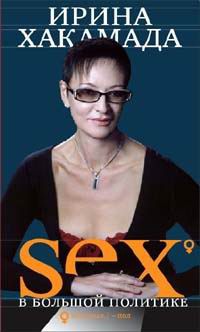Книга Абраша - Александр Яблонский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сложилось впечатление, что «Лингвист» и его супруга – «Морозова» о чем-то догадываются. Во всяком случае, от разговора на заданные мною темы явно уклоняются.
« Лесник ».12 декабря.* * *
– Что ты сказал?
– Не смей бить!
– Ах, ты, марамой сраный.
– Не смей бить собаку!
– Ну, держи!
* * *
«Как в кино» – почему-то подумалось ему, и он закричал. Крик застрял в груди. Длинный ударил старика в голову – коротко, сильно. Тот схватился одной рукой за лицо, другой за дерево, стараясь не упасть. Длинный опять, без замаха ткнул старика в нос, и тот стал оседать. Она кинулась к ним. Полы расстегнутой шубы крыльями бабочки-махаона накрыли объектив, и он на миг потерял всех из вида. Она летела к ним, что-то кричала, он тоже кричал, но без звука, «как в немом кино», и пытался поспеть за ней, схватить за руку, за полу шубы, за шарф, но ноги врастали в землю. Длинный отскочил, она кинулась к упавшему старику, но из тени вынырнул маленький крепыш. Он легко, как бы шутя, ударил ее кулаком в спину, она остановилась, обернулась, радостно развела руками, как будто неожиданно встретила старого знакомого, и стала садиться на землю. Его взгляд поймал лежащую на земле узкую короткую железную трубу. И еще – старик подполз к собаке и накрыл ее своим телом. Труба лежала почти под ногами, но нагнуться и дотянуться до нее было невыносимо трудно. «Надо успеть, надо» и опять подумал – не к месту и не вовремя: «Как в кино, а раньше думал, в кино всё придумано». И еще: «это – сон, всего лишь страшный сон. Я проснусь, я сейчас же проснусь… А если не сон?..». Рука дотянулась до трубы. Он услышал, как через секунду хрустнет череп низкорослого, и проснулся.
* * *
« 5 марта, 3 часа ночи.
Начало марта, а солнце сегодня пекло, как в мае. Завтра обещали опять заморозки. Как жить, Тимоша, с такой погодой?! Давно ты ко мне не приходил. Что так? А я всё время о тебе помню, мысленно советуюсь с тобой и всё жду, когда ты лизнешь меня в нос. Дневник давно не вела, так как много работы. Кое-что откопала, не знаю, пропустит ли шеф. Он у меня либерал, но жить-то все хотят. Только сейчас я стала понимать, что в историки идут либо проходимцы и лизоблюды – таких большинство, либо самоубийцы. Либо такие идиотки – правдолюбцы, как я, не понимающие, куда влезли. Мой Окунь – из такой породы тоже. Кока тоже что-то подсел на Иисуса – даже к переводам охладел. Ох, плохо это кончится, чует мое сердце. И еще, он все время говорит об Ариадне Скрябиной. О ее жизненной трагедии, и посмертной судьбе. У нас – в России и во Франции. Во Франции – Военный Крест с Серебряной звездой, медаль Сопротивления, мемориальные доски; В России – ничего, молчок. Он всё время об этом думает. Когда-то его папа рассказал ему об этой женщине. Прошло довольно много лет, Александр Николаевич исчез из его жизни, и тети Таты фактически уже нет – за что этой чудной семье – моей семье – столько горя?! – А он вдруг вспомнил об этой женщине, об Ариадне, погибшей в 39 лет в далеком 44-м году… Что-то его мучает в связи с судьбой этой женщины, но что, я не пойму. Ох, чует мое сердечко, Тимоша. Моей Нателле совсем плохо стало, почти не встает. Приди, Тимошечка, навести меня».
* * *
– А как у вас ночью?
– Как, как – никак – спим!
– Ну, да ладно…
– Ты что, с ума сошла спрашивать? Я же не спрашиваю, что ты со своим Олежей-бугаем ночью делаешь!
– Он не бугай!
– Проехали.
– Ты не обижайся, мне же интересно. Слушай, а у него обрезано?
– Где?
– Ну… там…
– А почему у него там должно быть что-то отрезано?
– Не отрезано, а обрезано, ты, прямо, как дурочка. У всех евреев должно быть там обрезано. Я читала, да баба Катерина говорила. От того, что там обрезано, у них лучше получается.
– Ты пробовала?
– Я вообще ничего не пробовала.
– Родненькая ты моя.
– Это ты моя родненькая. Кровинушка…
– С чего ты взяла, что он еврей?
– Так Абраша ведь…
– Спи спокойно. Там у него всё в порядке.
– Так я ж за тебя волнуюсь. А может, он скрывает, что он еврей. Многие этого стесняются. Среди них хорошие люди попадаются, такие хорошие… Такие хорошие бывают… Но… Тебе бы русского, своего бы найти. Пусть пьет, пусть бьет, но свой.
– Кончай белиберду нести. Мне никого не надо. Что, Абраша – «не свой»?
– Свой, свой, не нервничай!
– Да и у «них», по-твоему, «лучше получается».
– Лучше, лучше…
– Ну и не гоношись. Я его в обиду не дам.
– Он очень хороший. А то, что стесняется, так я понимаю…
– Чего стесняется, дура?
– Дура я, дура… то, что его за еврея принимают. Из-за имени его дурацкого…
– Так он не стесняется, он гордится!
– Тем, что еврей? – Такого не бывает…
Абраша ненавидел подслушивать, читать чужие письма или за кем-то подглядывать. Это у него было от папы. Он помнил, как папа кричал на маму, что случалось крайне редко, когда она как-то раз прочитала оставленное на столе его – Абрашино письмо, вернее, письмо ему от его девушки: «Какое ты имеешь право читать чужое письмо!» – «Так оно лежало распечатанное», – робко оправдывалась мама. – «Конечно, потому что он доверяет нам, а ты, а ты… а ты предала его. Ты его обворовала, даже хуже – ворованное можно отдать. Ты, ты, ты…» – папа задохнулся, обхватив голову руками, и так, уставившись в белую скатерть с голубыми полосами, сидел долго, молча, обреченно покачиваясь из стороны в сторону. Мама стояла рядом, боясь шевельнуться. Это Абраша никогда забыть не мог.
Вот и сейчас, сидя за самодельным столиком в спальне, он пытался сосредоточиться на своей многострадальной рукописи. Не получалось. Двери были закрыты, но, всё одно, слышимость в домике была идеальная, да и сестры разгорячились. Самогон-то белорусский – слеза…
«А ведь Настюха права. Действительно, слово “еврей” стало каким-то стыдным. Невероятно, но люди стесняются своего происхождения, своей национальности. Ну, ладно, сейчас, в этой стране… Странно: я подумал – “в этой стране”, а не “в моей стране”, а это ведь моя страна, мой народ, других у меня нет и не будет, да и быть не может… Сегодня в моей стране это понятно: с пятым пунктом в паспорте, с первыми отделами, с антисионистскими комитетами и всем этим бредом… Но то же было и раньше, в цивилизованном обществе. Почему?»
Абраша вспомнил Гейне. Если бы его спросили, кто его самый любимый русский поэт, он, не задумываясь, ответил: Пушкин. Это имя само бы вырвалось. Потом, поразмышляв, добавил: Тютчев, Ахматова, Баратынский, Мандельштам. В Европе – безоговорочно, Гейне. Он обожал его поэзию. Но в определенный момент Абраша «наткнулся лбом на стенку» – внезапно и поэтому ошеломительно, болезненно.