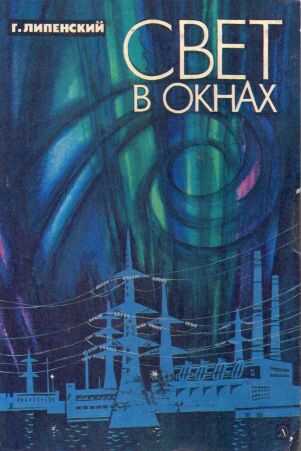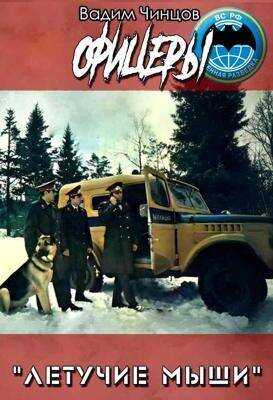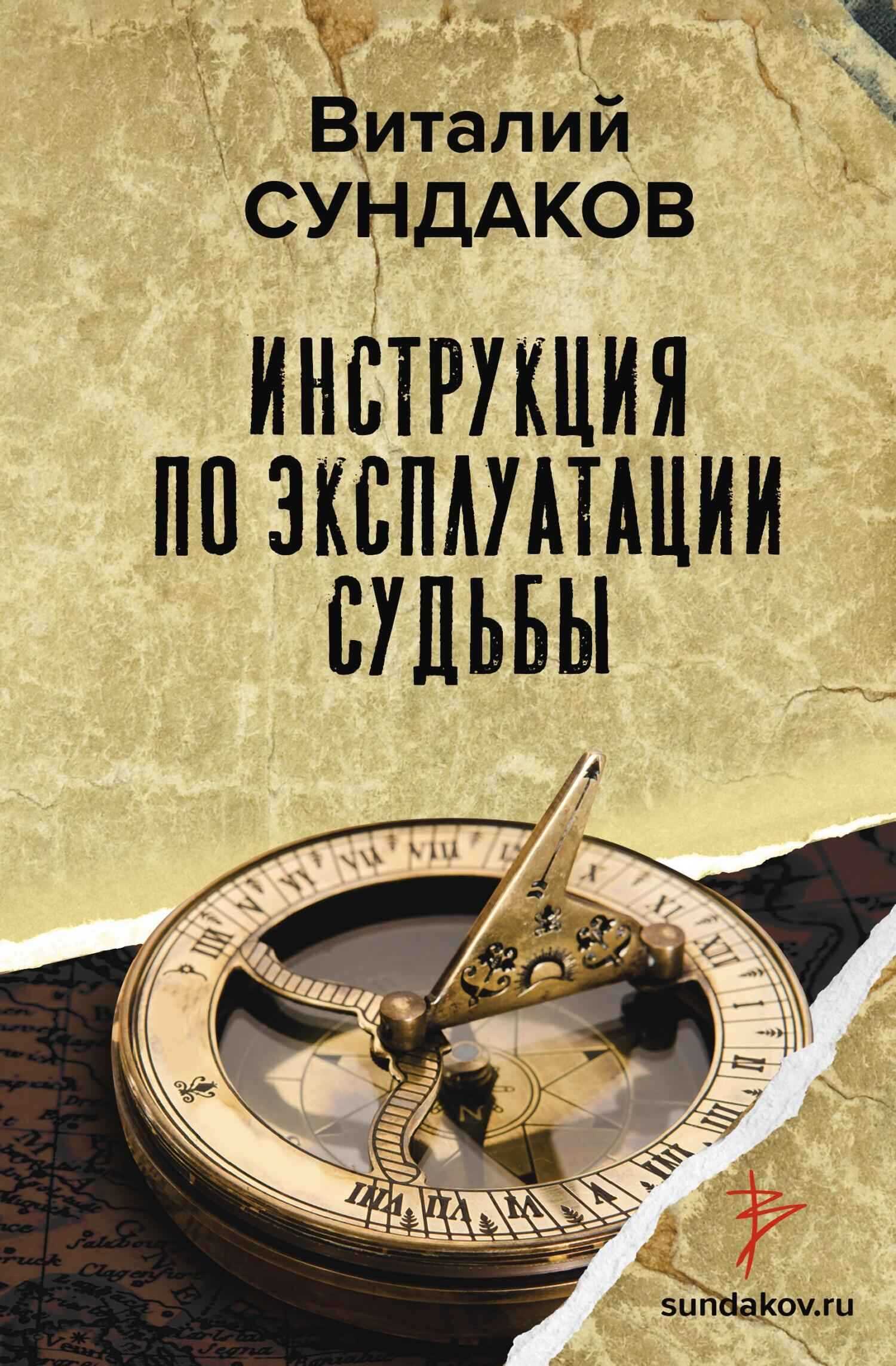Книга Двужильная Россия - Даниил Владимирович Фибих
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Значит, старшие командиры должны уступать место вольнонаемным? – сказал я Карлову. – Безобразие! – И отошел, взбешенный.
Впервые я разговаривал с ним таким тоном. И впервые, вероятно, с Карловым так разговаривали его подчиненные.
Уже неделю сидим в Издешкове и не можем погрузиться в эшелоны. Не думаю, чтобы немцы такими темпами перебрасывали свои армии. Как скверно мы воюем!
Летом будут страшные решающие бои за Москву. Опасность для нее не ликвидирована. Судьба войны должна решиться летом 43-го года. Пора кончать.
Апрель
8 апреля
Простился с северо-западом. Надеюсь, навсегда. Новое место, иной пейзаж.
Восемь суток пробыли в Пено, дожидаясь погрузки эшелона. Последний вечер отпраздновали общим банкетом. Получили новые посылки – в каждой четвертинка, сыр, колбаса, луковица, – выложили на общий стол. Оба «дзота» соединились вместе. На сей раз вечер прошел без споров, ругани, матерщины. (Заранее условились.) Было приятно. Но неожиданный приказ грузиться испортил вечер.
Рано утром 1 апреля мы были на вокзале. От него ничего не осталось, кроме путей. Половинка ржавого паровоза – будка машиниста оторвана. Вблизи огромная воронка. Остатки исковерканных вагонов и паровозов. На путях бесконечные составы, около них серые толпы бойцов, лошади, грузовики.
Оборудовали предоставленную нам теплушку. Устроили нары, поставили железную бочку с трубой. Пантелеев, взобравшись на крышу, прорубил отверстие для трубы, натаскали дров. Все в одной теплушке – 14 человек. Редактор с двумя девушками устроился в автобусе, поставленном на платформу. Наборщики, печатники, шофера – тоже в машинах, установленных на платформах. Дедюра со своей кухней занял половину большого пульмановского вагона.
В нашей теплушке радиоприемник. Над вагоном антенна. Наконец тронулись, поехали. Все веселы, оживленны. Минуем Осташков, Бологое. Ура! Эшелон поворачивает на Москву. Вагон взволнован: объявлен приказ никому не отлучаться из эшелона. Десятки планов, как уведомить родных и вызвать их к поезду, как передать им приготовленные посылки. Неужели, будучи в Москве, так и не увидим жен, детей, матерей?
Цитрон с Москвитиным отправляются к Карлову. Возвращаются гордые, сияющие. Москвитин, оказывается, прямо заявил редактору:
– Если вы не хотите вызвать общую ненависть к себе сотрудников, вы отпустите нас в Москву. Иначе вы ставите себя под удар всего коллектива.
И Карлов струсил, согласился. Начал он с категорического отказа. («Я не желаю нарушить приказ. Отпустить? Ни за что!») А кончил тем, что стал жаловаться на отношение к нему Горохова, рассказывал, что однажды упал в обморок на глазах генерала. В результате Москвитин и Цитрон получили разрешение побывать дома. Их нагрузили адресами: пусть сообщат родным оставшихся и привезут их на вокзал.
Утром 3-го показалась Москва. Эшелон остановился на ст. Ховрино. Вскоре оттуда нас передали на ст. Лихоборы. Москвитин отправился к Прокофьеву и Рокотянскому. Появился Смирнов, дожидавшийся в Москве приезда редакции. Я получил от него письмо из дома. Мама наконец подробно рассказала о последних днях жизни отца. Тяжело было читать.
Накануне папа получил урок в школе, 16-го он пошел на первое свое занятие. Будто предчувствуя недоброе, мама пошла его провожать. На улице папа вдруг схватился за сердце и упал. С помощью прохожих мама подняла его и довела до квартиры. Там он слег. Начал терять слух и дар речи. 17-го, в 5 часов утра, тихо скончался – заснул. Измученная мама не заметила момента его смерти – спала, сидя около папиной постели и положив голову на его подушку. Когда проснулась – отец был уже мертв.
«Не уберегла дорогого», – пишет мама. Сколько кроткой, покорной горечи в этих словах!
Последние папины слова:
– Как мы счастливы, что у нас такие дети.
Пишет мама, что сейчас она живой труп, третьей военной зимы не переживет.
Совершенно подавленный, ожидал я приезда своих. Они не приехали – Москвитин что-то напутал. Тем временем остальные сотрудники один за другим получали от Карлова увольнительные записки в город и, обрадованные, покидали вагон. То же самое происходило в других вагонах. Эшелон быстро опустел. Почти весь день провел я в ожидании мамы и Берты. Только под вечер решил наконец пойти к Карлову, заранее готовый к отказу. Первым его вопросом было:
– Почему раньше мне об этом не заявили?
Я объяснил, что все время ждал приезда родных на вокзал и боялся разминуться с ними.
– Ну хорошо, – внезапно смилостивился военачальник. – Езжайте.
Увольнительная записка до 10 часов утра следующего дня в кармане. Снова знакомые московские улицы, трамвай, метро. Но при мысли о том, что сейчас войду в опустевшую комнату и увижу бедную, убитую горем маму, у меня сердце сжималось болью и острой тоской.
Вот и она сама – высохшая, сгорбленная, совсем старенькая старушка. Увидев меня, залепетала что-то несвязное о папе, заплакала. Одна, совсем одна в огромной, холодной, мрачной зале. Витя был на дежурстве.
Когда мы сидели, беседуя, за столом, вошла Берта. Я в первый момент ее не узнал – такой она стала тоненькой. Лишь глаза да губы остались на лице. Но выглядела она лучше, чем я предполагал, и худоба к ней шла.
На столе появился знакомый синий графинчик с водкой, настоянной на апельсиновой корке (мама припасла для меня), я распаковал свою посылку, поделил ее на три доли – маме, Берте и брату. Закусили. Бедные проголодавшиеся москвичи.
Коротким и грустным было свиданье. Я простился с мамочкой, не зная, увижу ли ее снова, и отправился с женой на ее квартиру. Берта жила у матери. Все они переехали. Меня рассматривали как экзотическое существо. Провел ночь с женой. Полтора года мы не виделись. Она истосковалась по моей ласке и, как всегда, была очень нежной. Я не мог отвечать ей тем же чувством – не то занимало голову и сердце, – но, кажется, она осталась довольна мной как мужчиной.
Не было времени поговорить обо всем. Коснулись лишь самого главного. Берта настаивает, чтобы я перебирался в Москву – работать над серьезной вещью. Она права – достаточно я кормил вшей на фронте. Пропавшая матвеевская посылка нашлась – правда, не сама посылка, а лишь дневники мои, которые в нее были вложены. Но это самое главное.
– Я прочла твой дневник, – призналась Берта, – и после того мне как-то