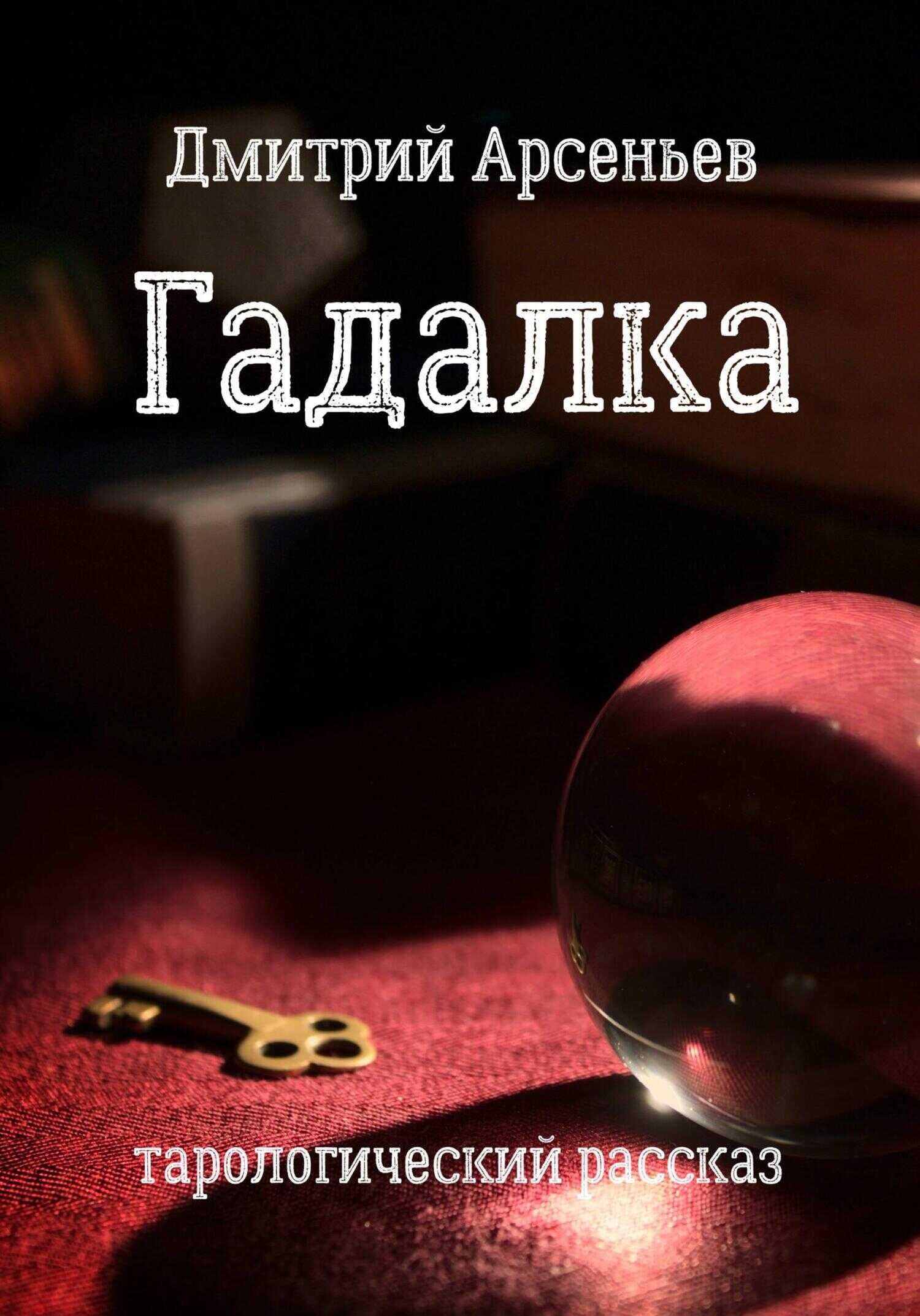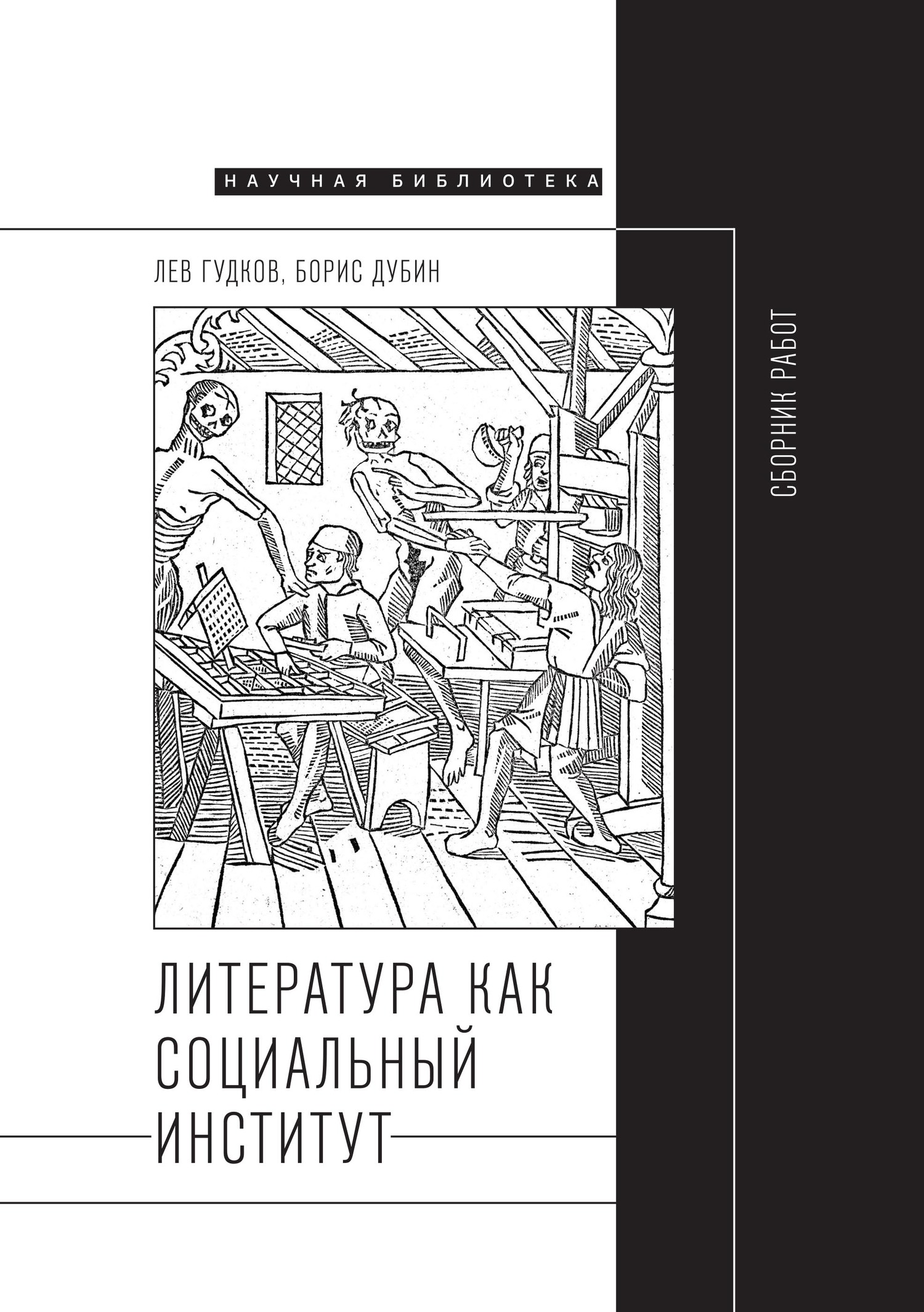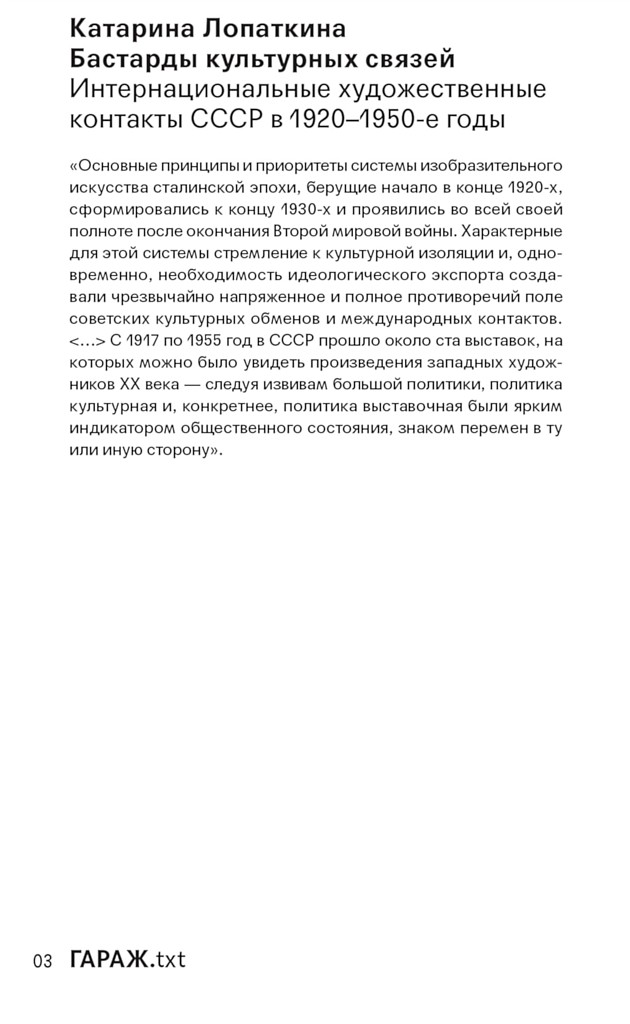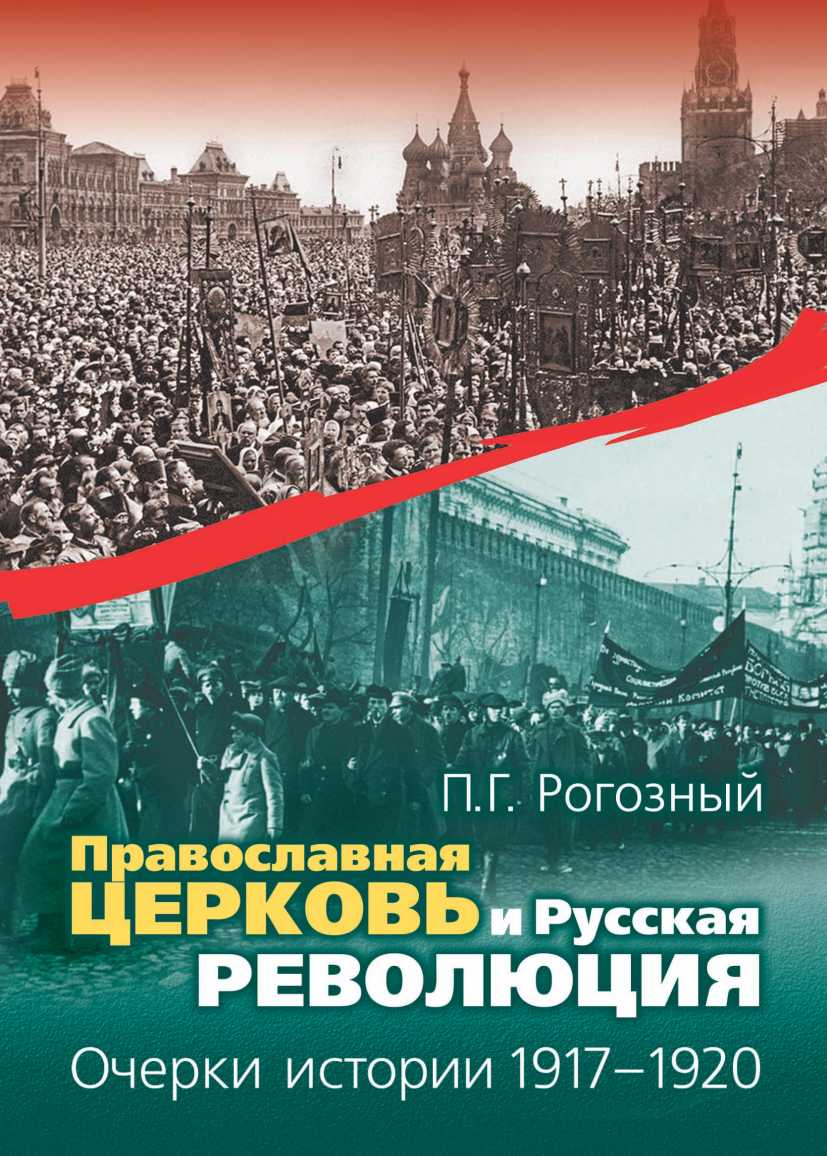Книга Литература факта и проект литературного позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов - Павел Арсеньев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Новая нищета опыта» обязана Первой мировой войне, откуда «люди вернулись не богаче, но беднее опытом, доступным пересказу». Однако уже сейчас то же самое, что ведет к оскудеванию искусства в «Рассказчике» и вместе с тем будет переоткрыто в фигуре советского газетчика («арена безудержного унижения слова – газета – является ареной, на которой готовится его спасение»[848]), начинает осмысляться Беньямином как принципы, на которых может быть развернуто широко организованное производство нового из духа дефицита. Неслучайно здесь потревоженная фигура «последнего философа и первого медиатеоретика» напоминает, что, наряду с пользой, история приносит и немалый вред и иногда требуется обрубание цепей истории[849]. Именно из этого тезиса Ницше исходил русский авангард в своем сбросе культурного наследства с корабля современности – как более неадекватного пережитому опыту индустриальной бойни, продолжающейся и в мирное время «другими средствами»[850]. Наследует ему и более поздний советский и немецкий левый авангард[851] – и вслед за ними теоретизируется Беньямином.
Поскольку литературный позитивизм XIX века был обязан и немецкой «позитивной» философии, и французской позитивной науке, то и в XX веке долг русской литературой тоже будет возвращен не только Веймарской, но и Третьей республике. Если немецкий левый интеллектуал едет в советскую Москву к любимой женщине и стремится делать «описания, избегающие всякой теории»[852], то русский футурист и правый эсер вынужденно бежит несколькими годами раньше в обратном направлении, чтобы создать «ряд очерков русского Берлина, <которые> потом показалось интересным связать <…> какой-нибудь общей темой»[853]. Этой темой, скрепляющей интуиции о бессюжетной прозе будущего участника «Нового ЛЕФа», станет любовная:
<…> заглавие книги уже родилось, но оно не связало кусков. Пришла мысль сделать из них что-то вроде романа в письмах. Для романа в письмах необходима мотивировка – почему именно люди должны переписываться. Обычная мотивировка – любовь и разлучники. Я взял эту мотивировку в ее частном случае: письма пишутся любящим человеком к женщине, у которой нет для него времени. Тут мне понадобилась новая деталь: так как основной материал книги не любовный, то я ввел запрещение писать о любви. Получилось то, что я выразил в подзаголовке, – «Письма не о любви»[854].
Не являясь чистым «явлением стиля», это почти комбинаторное ограничение – «не пиши мне о любви» – было наложено на автора не только материалом, но и реальной женщиной, которая впоследствии тоже эмигрирует из Берлина в Париж, войдет в круги французского сюрреализма и будет способствовать переходу его лидеров на коммунистические позиции. Если для Маяковского «проза уничтожилась из-за отсутствия времени на читание и писание», приведя поэта к работе с радио, то отсутствие времени у его свояченицы Эльзы Триоле, наоборот, дарит Шкловскому «мотивировку» для пищущейся автобиографической прозы. Впрочем, назвать это возвращением к вымыслу, «бледнеющему рядом с жизнью», довольно сложно, скорее эта проза переплетается с ней и предъявляет пример «литературизации всех жизненных отношений»[855]. Раз на это (письмо) у Эльзы Триоле (пока еще) нет времени, Шкловский включает ее подлинные письма в качестве своего рода документального материала, подобно тому как Третьяков будет включать в био-интервью подлинные слова Дэн Ши-Хуа. Так, отказом от письма Триоле дарит русскому формализму один из наиболее убедительных примеров понятия «мотивировки», а французскому сюрреализму – смычку с русским политическим и художественным авангардом:
Синтаксиса в жизни женщины почти нет. Мужчину же изменяет его ремесло. Орудие не только продолжает руку человека, но и само продолжается в нем. <…> Больше всего меняет человека машина. <…> Пулеметчик и контрабасист – продолжение своих инструментов. Подземная железная дорога, подъемные краны и автомобили – протезы человечества. Случилось так, что мне пришлось провести несколько лет среди шоферов. Шоферы изменяются сообразно количеству сил в моторах, на которых они ездят. <…> Не забудем о заслугах автомобиля перед революцией. <…> Революция включила скорость и поехала. <…> Вещи делают с человеком то, что он из них делает[856].
Это краткое введение в философию техники Шкловского, имя которого обычно связывают только с «техникой писательского ремесла», позволяет увидеть, что уже в начале 1920-х годов его занимают вопросы не только литературного ремесла, но и орудия как продолжения руки человека вообще, а самого человека – как продолжения своих инструментов: не только письменных, но и индустриальной техники, меняющей человека и являющейся протезами всего социального тела человечества[857]. В немалой степени чувствительность к технике – как правило, близкой литературе – будет обнаруживать и автор «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости»[858]. Заметно, однако, что если для немецкой традиции, опять же, важно то, что искусство повествования оскудевает после и отчасти вследствие опыта техники индустриальной войны, а аппарат искусства получает «позитивное определение варварства» или «сдвигается в направлении социализма» в изобретениях художественной техники, то Шкловский, начиная с первых своих сентиментальных путешествий по прифронтовой зоне, рассматривает войну и революцию как меняющие природу человека вообще, а к «Третьей фабрике», которая «обрабатывает» его во второй половине 1920-х, уже и вовсе не ограничивается вопросами (медиа) эстетики, в чем приближается к масштабу будущих положений французской антропологии (техники), о которой и пойдет речь в этой главе.
* * *
Кроме иной географии военных действий, французский авангард имеет отличную от советско-немецкой версии институциональную предысторию[859]. Ремесла здесь, с одной стороны, всегда сосуществовали с искусствами (см. Arts et métiers), а с другой – надежно институционально разграничены[860], и поэтому прорыв к утилитарному, ремесленному и позже индустриальному производству не мыслился как вектор для авангардного сдвига искусства, а художник не мог мыслиться как «всего лишь наиболее квалифицированный представитель своего цеха» (Арватов)[861]. Если на восток от Рейна всегда стремились к каменности камня, вещности слова, конкретности факта и выявлению материальности конструкции, то на запад от него авангардные поиски разворачивались скорее в направлении подвижности смысла, скольжения знака, амбивалентности объекта и, наконец, гипотетического или аксиоматического характера опыта. Это различие затрагивало стратегии не только авангарда, но и многих других доменов культурного производства – от научной эпистемологии до философии языка и культуры[862]. Простым примером этого может служить то, чего ищут наиболее радикальные поэтические опыты обоих фронтов.
Тогда как французский символизм, будучи одним из первых озабочен выявлением литературности как таковой, борется посредством суггестии с прямотой называнием предмета, «уничтожающей три четверти удовольствия» (Малларме), русский футуризм и формализм борется скорее с ослепляющей гладкостью называния – посредством сдвигов и разрывов. Если «проклятый поэт»