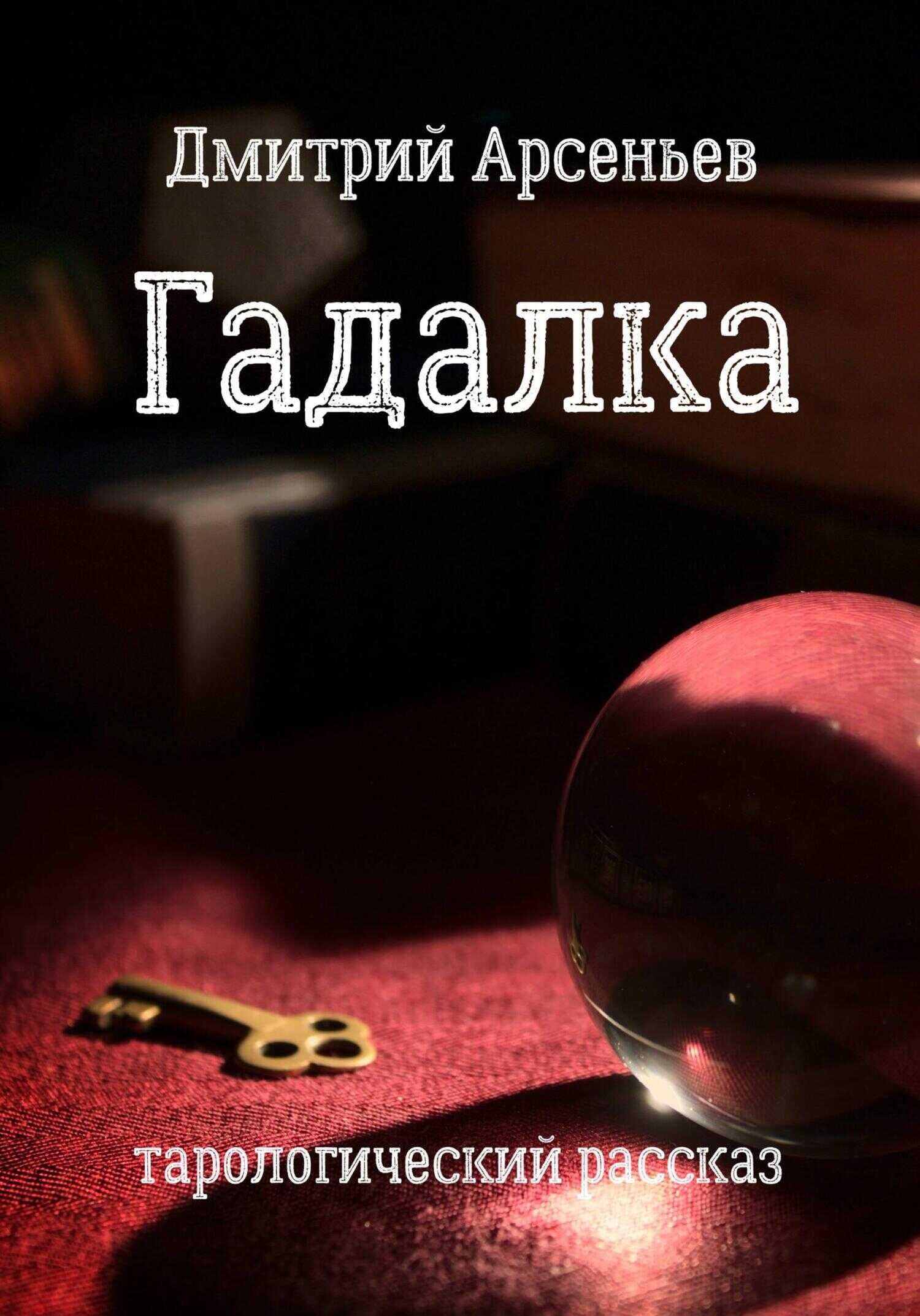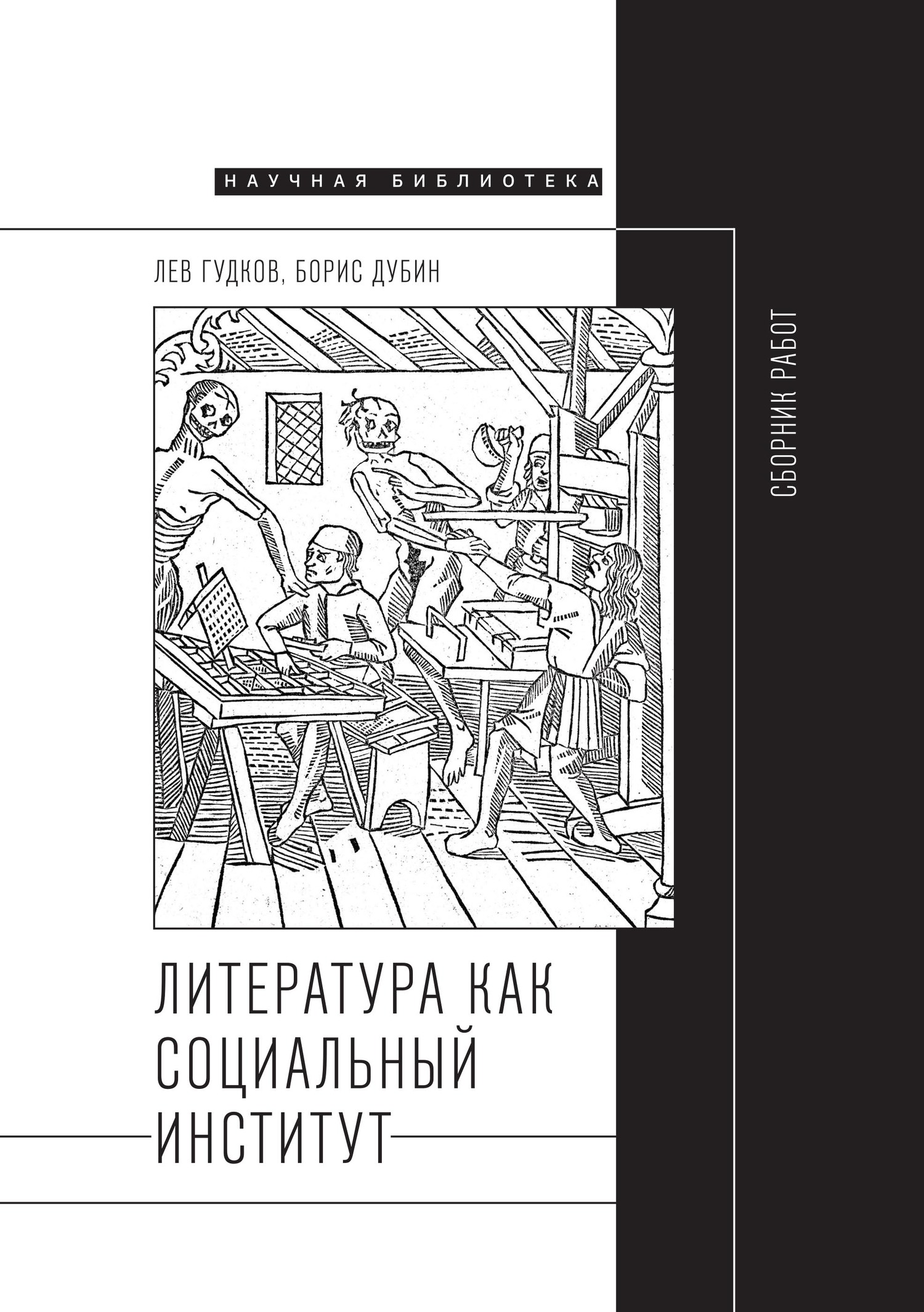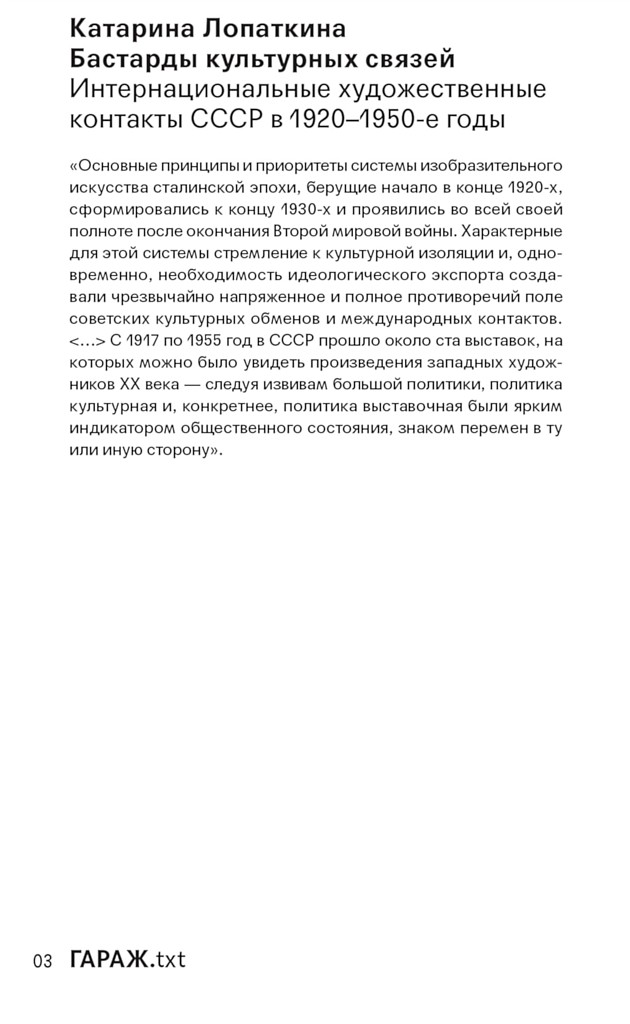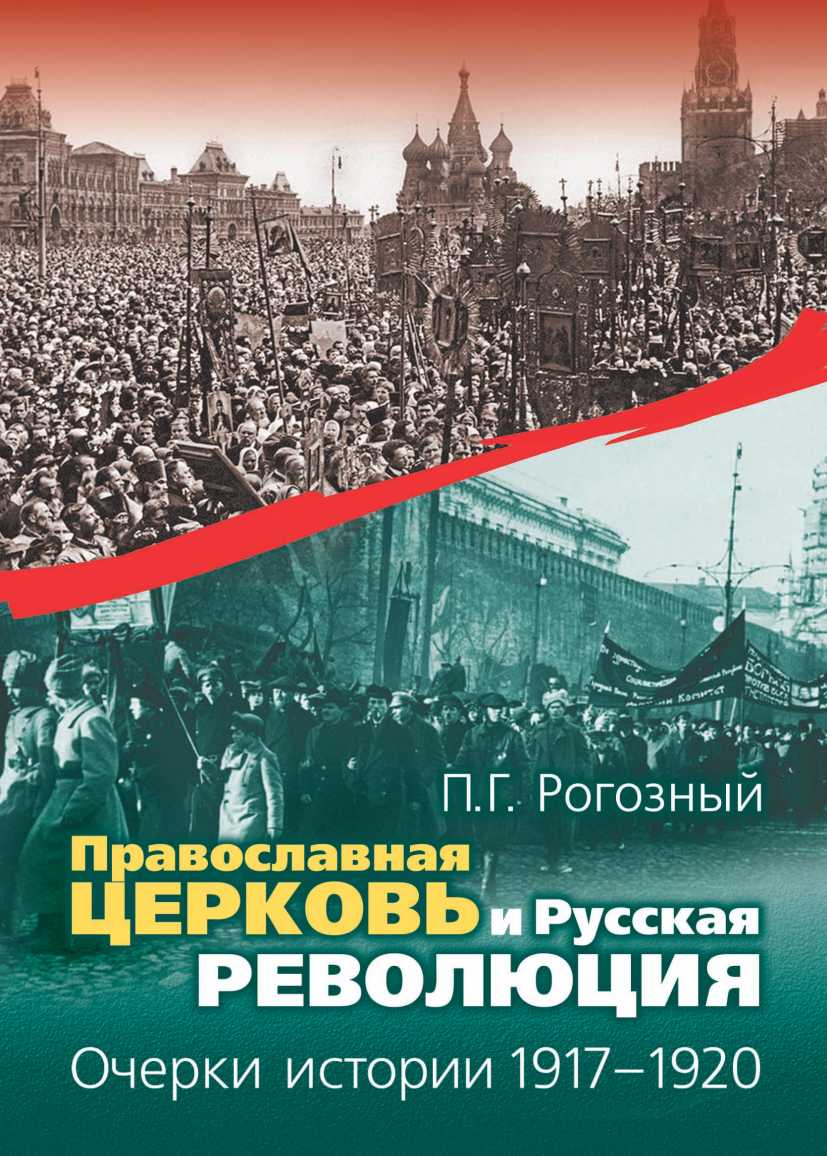Книга Литература факта и проект литературного позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов - Павел Арсеньев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Третьяков С. Писатель и социалистическая деревня[827]
Если малоизвестная теперь берлинская лекция Третьякова прошла в 1931 году при большом стечении слушателей и получила все указанные отклики и резонансы, то лекция Беньямина 1934 года, благодаря которой, как правило, западные исследователи узнают о существовании Сергея Третьякова и литературы факта, возможно, не имела места быть[828]. Она должна была состояться в Париже в 1934 году – как гласит ее подзаголовок, выступление было предназначено для Института изучения фашизма и назначено на 27 апреля.
В людях томятся не только ненаписанные книги, но и непрочитанные лекции, не доведенные до конца исследования и оставшиеся в набросках циклы статей. А также массивный объем переписки и фотографий – если его не уничтожают при аресте или он не пропадает при поспешной эмиграции. Поскольку архиву Беньямина повезло больше, чем архиву Третьякова[829], из его писем к Адорно и Брехту мы можем узнать, что он готовил для парижской публики цикл из пяти лекций о современной немецкой литературе, который должен был пройти в доме «одного известного гинеколога»[830]. Если задача «литературной повивальной бабки» выглядит на первый взгляд довольно просто – «помочь выйти книгам на волю», то задача автора как производителя формулируется несколько сложнее и требует перестраивать аппарат культурного производства на полном ходу.
Берлин – Париж, между хорошо проветренной утопией и перегретыми фантазиями
После прихода фашистов к власти в 1933 году Беньямин эмигрирует в Париж, куда перемещается центр полемики о прогрессивном искусстве и ее основные участники – коммунистическая интеллигенция и всевозможные «люди одного костра». Вместе с тем для Беньямина Париж не случайное место эмиграции, а примерно культурная Мекка или «столица XIX столетия»[831]. Он уже останавливался здесь подолгу в конце 1920-х годов и теперь рассчитывает продолжить работу над The Arcades Project, а также интегрироваться в парижскую интеллектуальную жизнь.
Но Nouvelle Revue Française в публикациях ему отказывает, Le Monde – тоже, а запланированный цикл лекций «у одного известного гинеколога» срывается из-за внезапной болезни последнего. Этим «известным гинекологом» был Жан Дальзас – активный участник французской левой и позже член ФКП, а также коллекционер модернистского искусства и, наконец, обитатель Maison de Verre, где часто собираются марксистские интеллектуалы и поэты-сюрреалисты – Арагон, Элюар, Кокто, Миро, с которыми Беньямин имел возможность там познакомиться[832]. Сюрреалисты – это тоже не случайный и не светский контакт, в годы эмиграции Беньямин подробно обследует французскую литературную сцену с ее крайне правого фланга («романтических нигилистов») до крайне левого и приходит к выводу, что сюрреалисты, пожалуй, ближе всего подходят к пониманию роли интеллектуала как технолога, признающего важность прогресса (литературной) техники для пролетариата, и превращаются в «предателей своего класса» (Арагон) на уровне практики, а не только настроений[833]. Впрочем, в рассуждениях о сюрреализме 1929 года Беньямин еще не был так уверен и упоминал «торопливое воссоединение этого движения с непонятным машинным чудом <…> тяжелые, дурманящие фантазии <, что> весьма поучительно было бы сравнить с хорошо проветренными утопиями какого-нибудь Шербарта»[834]:
Бурные духовные течения могут иметь перепад высот, достаточный для того, чтобы критик возвел на них электростанцию. В сюрреализме такой перепад образуется разницей в уровнях между Францией и Германией. <…> Немецкий наблюдатель не стоит у истока. В этом – его удача. Он – в долине. Он может оценить энергию течения. Ему, немцу, давно знакомому с кризисом интеллигенции, <что> на собственной шкуре постигла свое в высшей степени уязвимое положение меж анархической фрондой и революционной дисциплинированностью, – ему нет прощения, если он архиповерхностно сочтет это движение «художественным», «поэтическим»[835].
Немецкий наблюдатель торопится воссоединиться с фантазиями парижской интеллектуальной сцены, но, как выходец из берлинской среды, сохраняет и критическую дистанцию. В противопоставлении утопий с хорошей вентиляцией (well-ventilated utopias) дурманящим фантазиям (overheated fantasies) угадывается не только интуиция о связи архитектуры с болезнью[836], но и, возможно, главный фронт, проходящий в межвоенном (левом) авангарде, а также приверженность Беньямина к его советско-немецкой версии – конструктивизму и производственничеству Лефа, Новой вещественности и Баухаусу, которым удалось преодолеть свои футуристические и экспрессионистские стадии соответственно и посвятить себя «культуре материала», фактичности и утилитарности[837]. Однако наряду с этим, вплоть до 1933 года – общим, советско-германским фронтом существовал и составлял ему внутриавангардную оппозицию «второй фронт» – французский, которой вскоре станет уместно называть и франко-американским[838].
Так, в тексте «Experience and Poverty»[839], носящем промежуточный характер – между сюрреалистскими симпатиями и производственной дисциплиной, между меланхолией и пассажами из «Рассказчика» и утверждающим тоном (или даже смехом) «Автора как производителя», – Беньямин в год своего собственного промежуточного положения и перемещения из Берлина в Париж в очередной раз заводит плач по опыту, чьи акции в послевоенной Веймарской республике не переставали падать в цене, а искусство повествования – оскудевать[840].
В советской, менее апокалиптической, атмосфере 1920-х искусство повествования испытывало не меньшие трудности, но оно не столько «оскудевало», сколько оборачивалось «техникой бессюжетной прозы»[841]. Шкловский был из того же самого поколения «добиравшихся в школу на конке, вдруг оказа<вшегося> в силовом поле разрушительных потоков и взрывов», о котором пишет Беньямин в обоих эссе[842]. О «детстве человека, который потом писал коротко», известно следующее: «Когда я был мальчиком, то еще попадали под конку. Конка была одноконная и двухконная. При мне провели электричество. <…> При мне появился телефон»[843]. Если Беньямин всегда начинает с оплакивания утрачиваемой формы – конного транспорта или опыта, передаваемого из уст в уста, и только в ходе разворачивания своей мысли приходит к более прогрессивному отношению[844], то Шкловский как бы сразу пытается обустроиться в технологической и коммуникативной ситуации, сколь бы плачевной она ни была. Если на конке больше не добираются в школу, а опыт больше не сообщается изустно, значит, стоит обратить внимание на другие культурные техники – газету, телефон или электричество.
Вскоре, однако, из этого давления новых технологий, порождающих инфляцию опыта и, как следствие, неконтролируемый поток идей[845], Беньямином выводится позитивное определение нового варварства[846]. В этот фронт Беньямин помещает Корбюзье, Адольфа Лооса, Баухаус в Дессау (включая столь дорогого ему Пауля Клее, преподававшего там) и, конечно, Брехта; продукцию этих авторов он не без симпатии объединяет под общей рубрикой «новой нищеты опыта», в которую, как несложно догадаться, могли бы войти и