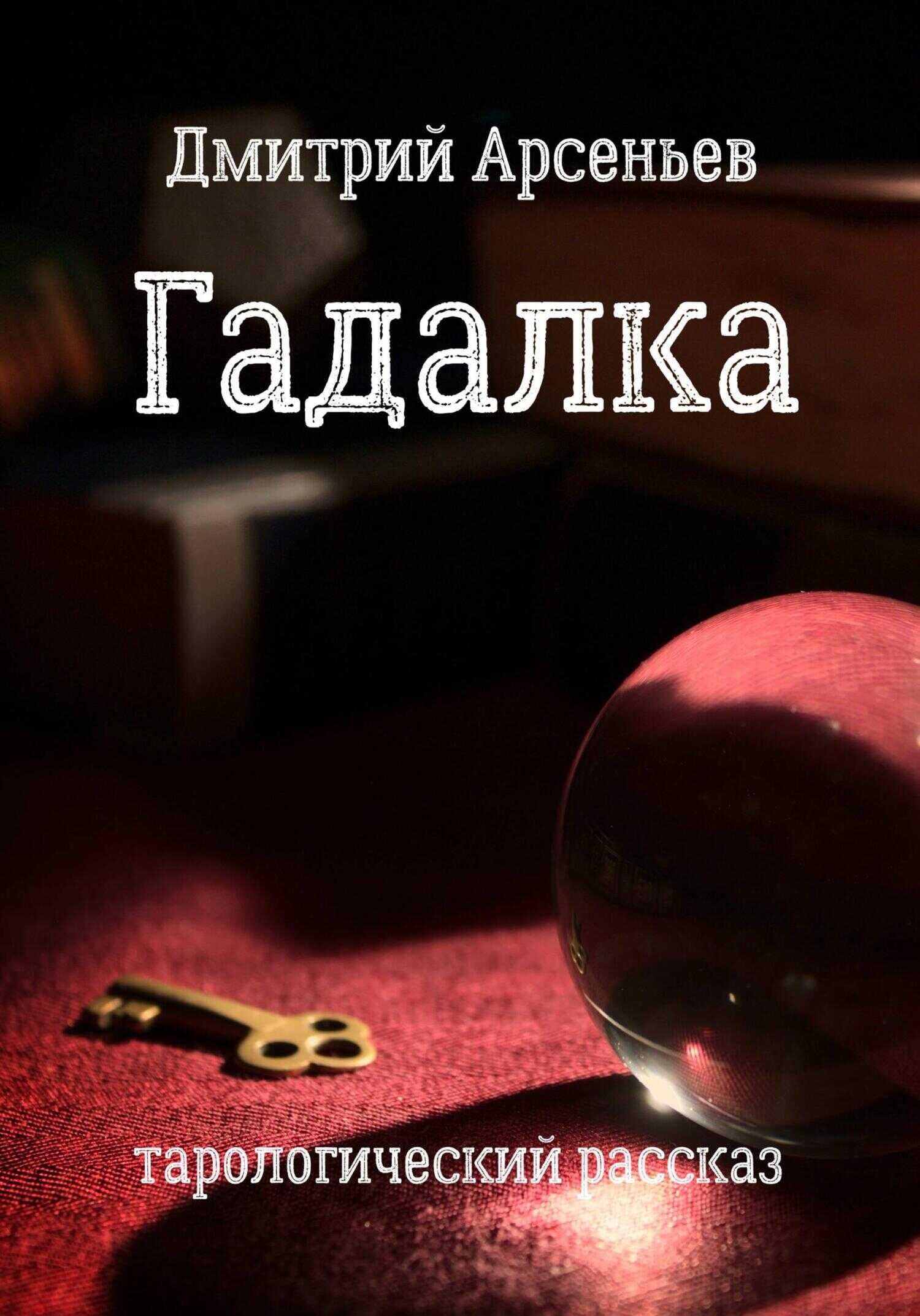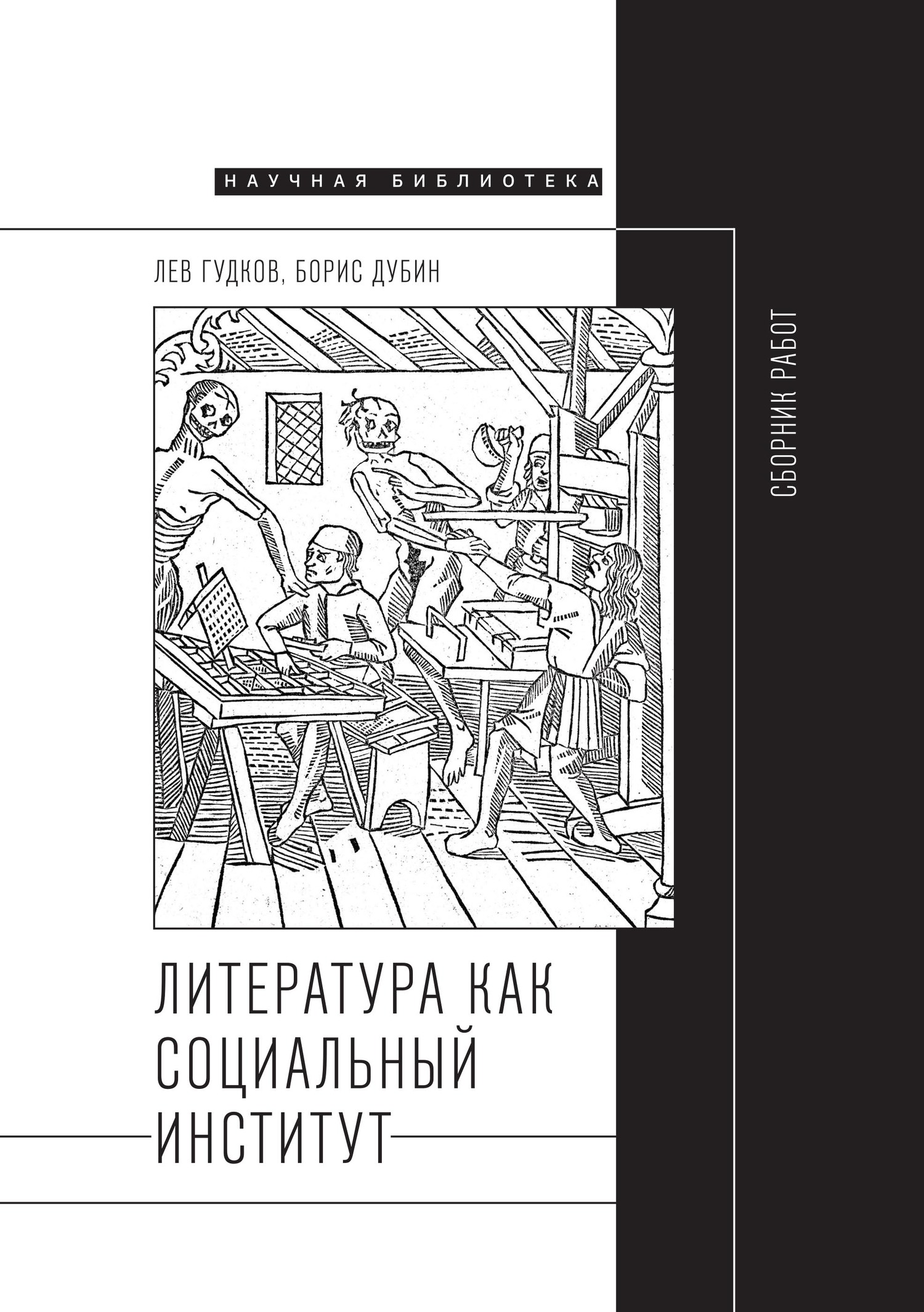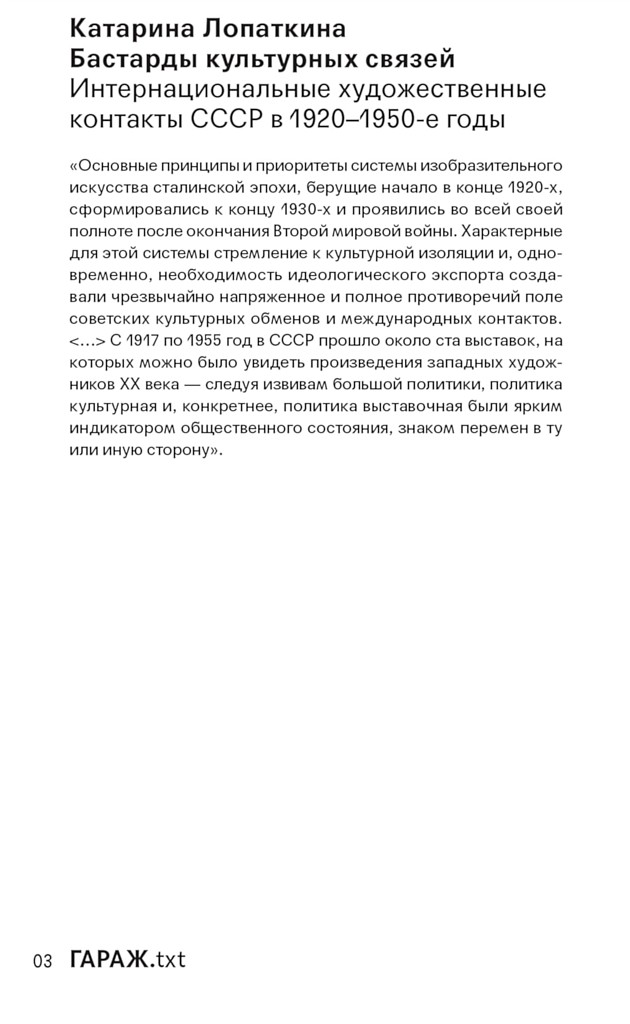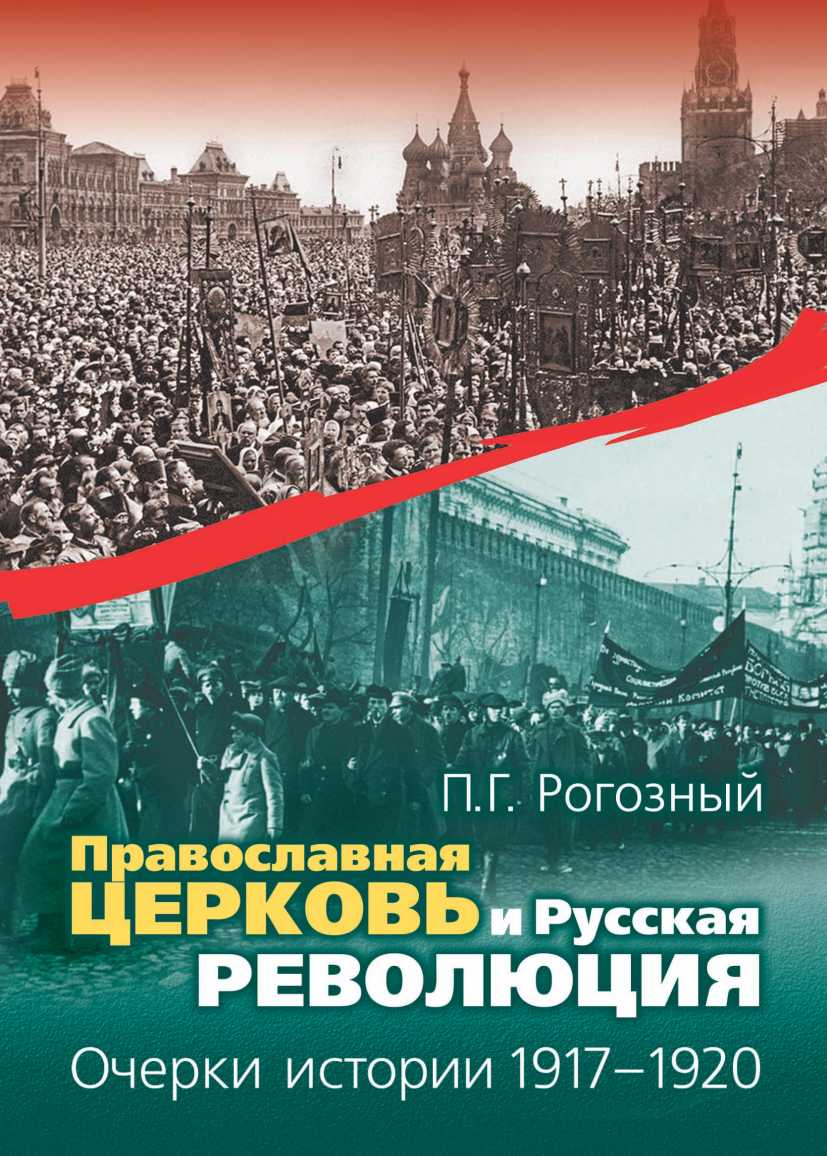Книга Литература факта и проект литературного позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов - Павел Арсеньев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Паспорта, деньги и что еще можно забыть: к биографии медиавещи
И все же, как уже было для литературы XIX века, после 1933 года именно Париж оказывается главной сценой левого движения. В том числе и для советского авангарда он оказывается если не столицей[866], то важным направлением миграции и вектором распространения «культурного большевизма», особенно после того как последнему – наряду со многим другим – был положен конец в Германии. Но нередко уже и в течение 1920-х в Париже оказываются – с соответствующими культурными и письменными впечатлениями – участники Лефа.
Первым в Париже оказывается Маяковский осенью 1922 года, где ему еще приходится открещиваться от «аполлинеровских вирш» и в основном «агитировать вещи и здания»[867]. Во второй раз он приезжает в Париж как раз из Берлина осенью 1928 года, когда не кто иной, как Эльза Триоле оказывается его гидом и переводчиком[868], а в список его занятий все больше входит уже знакомство не только с сокровищами культуры, но и с потребительскими товарами[869]. Наконец в последний раз он окажется в Париже в феврале – марте 1929 года, после чего и появятся «Стихи о советском паспорте».
Паспорт в 1929 году если и доставался из широких штанин, то до этого доставался не так просто. Внутренних общегражданских паспортов в год написания стихотворения в Советском Союзе еще не было[870], и поэтому все «пурпурные книжицы» были скорее советскими «загранпаспортами» для простановки «выездных виз», на которые могли рассчитывать только очень близко и хорошо расположенные к власти советские граждане[871]. Жестокая ирония, однако, заключается в том, что после написанных «Стихов о советском паспорте» Маяковский больше не выезжает за границу, а год великого перелома становится годом не только окончательного прекращения работы «Нового ЛЕФа», но и резкого снижения мобильности кочующего космополитичного авангарда (а также первых попыток привить ему идеологическую оседлость – по ту или иную сторону границы «одной отдельно взятой страны»)[872]. Впрочем, как это часто бывает, новый режим контроля за перемещением лиц вводится не просто через mot d’ordre, но через новую материальную практику[873]. Маяковский поет оду материальному объекту, отмечающему весьма неоднозначный поворот в практике путешествий – причем не только из Советского Союза в Берлин или Париж, но и по всей Европе.
До Первой мировой войны почти все европейские границы носили скорее символический характер и пересекались, как правило, sans papier (Российская империя не входила в это число исключительно из-за своего изоляционизма). Во время войны не только оскудевает искусство повествования, но понижается и мобильность граждан – в пользу мобилизации иного типа, но по ее окончании это чрезвычайное положение уже никто не торопится отменять[874], поскольку паспортная система признается столь же удобной для контроля за населением и в мирное время. Для особенно национально настроенных правительств межвоенной эпохи система identité nationale и подавно оказывается полезной – особенно в деле подозрения всякого испытывающего дефицит этой самой национальной идентичности, пока не доказано обратное. И хотя от этого страдают даже представители авангарда, поддерживающие «возвращение к корням» (вроде Эзры Паунда, привыкшего перемещаться по американским штатам без всяких документов, но испытывающего проблемы с документами в Европе[875]), главной жертвой паспортной системы в начале 1930-х оказываются вечные изгнанники и космополиты-поневоле еврейского происхождения. Перемещения номадического народа в Европе никогда не были простыми, но если раньше нужно было найти только работу и понимание у соседей, то во время и после войны мобильность еврейского населения все более ограничивается как раз паспортной системой, что и становится решающей причиной гибели Беньямина при попытке покинуть уже оккупированную Францию в 1940 году[876].
Маяковскому как въездные, так и выездные визы для путешествия в Европу и Америку тоже попортили немало крови и заставили обработать тонны словесной руды – причем тексты, написанные для получения одних (выездных), зачастую служили препятствием в получении других (въездных)[877]. Впрочем, паспорт был далеко не единственным и, возможно, не главным материальным объектом, сопровождающим перемещения поэта, – наряду с привозимыми из Парижа поэтическими впечатлениями, романтическими знакомствами с новыми и подарками для оставшихся в Москве уже хорошо знакомых женщин[878].
И все же, если для поэта главным сюжетом путешествия в Париж закономерно остается «книжица», удостоверяющая его имя, то для художника, декларировавшего конец живописи и переход к новым материалам, главными переживаниями становятся вещи. На Александра Родченко – еще одного члена Лефа – Париж производит впечатление прежде всего своей материальной культурой, теоретический и практический акцент на которой был изобретением именно раннего конструктивизма и производственного искусства[879]. Если быть точнее, Родченко поражает именно ее буржуазная модификация – товарное изобилие. Родченко пишет письма жене, тоже художнику Лефа, Варваре Степановой о тех товарах, которые ему удалось или не удалось найти из составленного ею списка, и в ходе выполнения этого мучительного консьюмеристского задания вырабатывает понятие «товарища-вещи»[880]:
Свет с Востока – в новом отношении к человеку, к женщине и к вещам. Наши вещи в наших руках должны быть тоже равными, тоже товарищами, а не этими черными и мрачными рабами, как здесь. Искусство Востока должно быть национализировано и выдано по пайкам. Вещи осмыслятся, станут друзьями и товарищами человека, и человек станет уметь смеяться, и радоваться, и разговаривать с вещами[881].
Отношение к вещи как промышленно произведенному товару у Родченко сразу же связывается с отношением к женщине и художественному объекту. Если в Париже художники «работают и делают много хороших вещей, но зачем?» (142), в чем несложно узнать акцент Третьякова на функциональном измерении искусства[882], то в советском производственном искусстве «вещи осмыслятся, станут друзьями и товарищами», а сам «человек станет уметь смеяться, и радоваться, и разговаривать с вещами»[883]. Но еще до того светлого времени, когда искусство будет «национализировано и выдано по пайкам», новое отношение к вещам или даже скорее отношения с