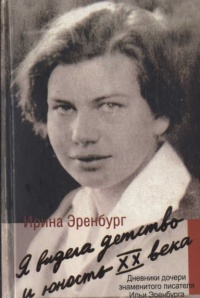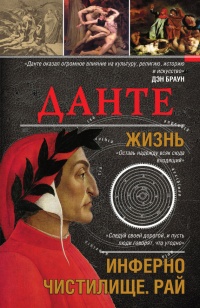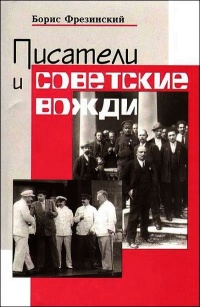Книга Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга - Юрий Щеглов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Это символ уважения, а Россия на уважении строилась и на уважении стоять будет. Тут вам не Америка! — сказал с ударением на последнем слове Александр Владимирович неожиданно зло. — Да, не Америка тут! Прошу запомнить!
Самый долгий день: с 4-х до 6-и
— Америка здесь ни при чем, — вмешалась мать Жени, и, как мне послышалось, немного испуганно. — При чем здесь Америка? — полувопросительно повторила она.
— Притом. Впрочем, все — ерунда! У нас изумительная университетская библиотека. Вот что самое главное. Лучше моей, — усмехнулся он с горечью. — Она не понесла никаких утрат. Женя говорит, что вы — юноша библиотечный, книжный. Сейчас это редкость. Я с Эренбургом тоже в библиотеке познакомился. В самом начале тридцатых и при весьма примечательных обстоятельствах.
— Папа! — опять одернула его Женя. — Ты лучше прочти отрывок из «Хулио Хуренито». Юра не верит, что ты сумеешь продолжить с любого названного слова любую фразу и с любой страницы.
— Легче задачки не придумаешь, — заулыбался Александр Владимирович. — Какие пустяки! Но я лучше расскажу о знакомстве с Ильей Григорьевичем.
— Папа, — не унималась Женя, — почему ты никогда не выполняешь моих просьб?
Она посмотрела на отца исподлобья и кончиком ножа поскребла тарелку. Чего-то она боится, опять подумал я. Но чего? Александр Владимирович не послушался и на сей раз. Да, отношения у них складываются не лучшим образом. Не ладятся у них отношения.
— Вы читали «День второй», молодой человек? Эренбург там описывает встречу с французским журналистом Пьером Саменом томского студента-математика. Он искал, с кем бы мог поговорить без переводчика. Ему указали на Володю Сафонова. Володя Сафонов — это я. Пьер Самен и есть зеркальное отражение самого Эренбурга. Не полностью, разумеется.
Признание отца Жени сразило меня напрочь. Теперь все понятно, все прояснилось. Фамилия Жени — Сафронова. Как я раньше не догадался! Вот откуда увлечение творчеством Эренбурга, огромная подборка книг и дарственные надписи на тех, которые я открывал, но из тактичности быстро переворачивал страницу. Да это ему присылал сам Эренбург! Вот так номер! Ничего себе! Передо мной сидел прототип главного героя романа! И пил клюковку, как обыкновенный смертный! Боже мой! Где я?! Что со мной?! Эренбург выпустил одну букву «эр», и на тебе — пожалуйста! Как я не догадался?! Ну и осел! Женькина фамилия Сафронова, двадцать раз на дню ее слышу. И как глухой! Ну и осел! Я едва не свалился со стула.
— Фигура Эренбурга меня поразила, — продолжил Александр Владимирович. — Я уже сталкивался с другими иностранцами, но не всегда мог определить с первого взгляда: кто они? Немцы, англичане, шведы… А тут сразу и издали догадался — передо мной русский француз, настоящий парижанин. Эренбург вежливо спросил: не подвергну ли я себя неприятностям, если везде в качестве гида буду сопровождать его? Я неплохо знаю советскую жизнь, добавил он, хотя последнее время жил во Франции.
Провинциальное начальство не любит, когда с журналистами беседовали простые, не уполномоченные на то граждане. Эренбург абсолютно точно приводит мою ответную реплику, которая якобы была обращена к Пьеру Самену, а в действительности адресовалась самому Эренбургу: «Глупости! Мы ко всему привыкли. А мне интересно с вами поговорить». Я цитирую по памяти строки романа, но не сомневайтесь — точнее нельзя, хотя я «День второй» не знаю наизусть, как «Хулио Хуренито». Я действительно жаждал с ним побеседовать. Он для меня в те годы индустриализации заменил глоток чистого свежего воздуха. Он написал, что Пьер Самен разговаривал с Володей Сафоновым в саду перед университетом. Сколько раз я напоминал Илье Григорьевичу, что перед университетом не сад, а Роща. Но завязали мы знакомство не в Роще, а в библиотеке, и свела нас вместе нынешняя ее директриса Наумова-Широких. Слышали про такую?
Я слышал про такую. Ее подпись стояла на читательском билете. Отец ее — ссыльный революционер, если не ошибаюсь. Старушенция в некотором роде замечательная.
Я смотрел на Эренбурга во все глаза. «Хулио Хуренито» я читал. Привез его в Томск немецкий инженер. Илья Григорьевич некрасивый человек, мешковатый, невысокого роста, но элегантный — олицетворение заграничного шика. В шляпе, с тростью, осеннее пальто перекинуто через руку — тогда модно было так ходить. В другой руке — погасшая, источающая аромат трубка. Портфель на длинном ремешке через плечо. Пиджак шерстяной из плотной ткани — называется «букле», с бордовой искоркой. Брюки мягкими складками падают на ботинки, а ботинки, с круто загнутыми носами… Ну, ботинки и описать невозможно. На толстой белой подошве. Настоящий каучук!
У нас в Киеве подобные носили стиляги. Ботинки-шузы на манной каше. Милиция стиляг преследовала. Фарцовщиков ловили, срезали манную кашу и отпускали босиком домой под смех мальчишек.
— Вид Илья Григорьевич имел не русский, космополитический имел вид.
Я посмотрел на Женю, но она молчала, потупив глаза. Хоть бы предупредила, чудачка!
— Целиком выдумав буржуазного журналиста Пьера Самена, представлявшего крупнейшую парижскую газету, названия Илья Григорьевич не привел: он правильно уловил и передал мое отношение к Западу, которое я выразил при первой встрече. У меня было сильное желание не просто его сопровождать и обедать вместе с ним в ресторациях. Я хотел узнать побольше о жизни Франции. Я предчувствовал, что мне не суждено никогда туда попасть. Он не так давно побывал в Испании, посетил массу музеев, видел Эль Греко, а Эль Греко был моим богом. Я собирал репродукции его картин. Илья Григорьевич тоже любил Эль Греко и потрясающе рассказывал о живописи. Словом, я был счастлив, что он пригласил меня в гиды. Франция, Испания, большая литература, поэзия, Эль Греко! Меня ждали упоительные дни!
Испанский сапог
Ошеломленный и раздавленный, я больше не мог усидеть на месте. Клюковка моментально выветрилась из бедной башки. Не докончив очередную порцию пельменей и воспользовавшись тем, что сам Александр Владимирович отправился в шестиметровку за кисетом, я поднялся и переместился к книжным полкам. Если бы я не встал со стула, то задохнулся от бушевавших во мне чувств. Я протянул руку и взял первое попавшееся — второй том альбома «Испания». Он лежал на полке поверх книг горизонтально.
И сразу ударило прошлое. Я пережил немецкие бомбежки, расстрел с воздуха змеей ползущего эшелона, слышал адский треск пламени горящих вагонов, чувствовал на лице огненное дыхание подожженных бомбой хлебов. Нередко и сейчас картины минувшего тревожат по ночам. Я сразу вспомнил, какой предстала передо мной та знаменитая и прославленная испанская война. Для меня ее сделал знаменитой и памятной Эренбург. Бегущие женщины с детьми, развалины Мадрида, искаженные горем лица. Война теснила меня со всех сторон и мучила. Я не мог оторваться от сероватых, дурно отретушированных фотографий. Альбом матери подарили на работе к 7 ноября — ровно двенадцать лет назад. Вручили на собрании вместе с благодарностью и почетной грамотой. Мать, сбежав после ареста отца из Кадиевки, устроилась преподавателем русского языка и литературы в школе младших командиров КОВО. В анкете она, конечно, скрыла, что муж несколько месяцев уже сидит за решеткой.