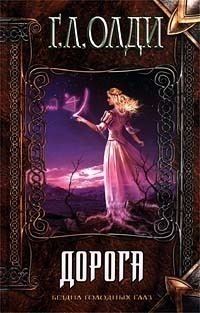Книга Песни Петера Сьлядека - Генри Лайон Олди
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Хочешь поехать с нами?
– Н-нет…
– Твое дело. А я поеду. Это будет моя последняя дорога. Больше я из Гульденберга ни ногой. Ни шагу! С места не двинусь! – Безумие хмеля или отчаяния рвалось наружу, брызжа слюной. Рушились запоры, ломались запреты. Освальд сейчас говорил не с Петером, скорее всего, он вообще не видел лютниста, выкрикивая обвинения в адрес людей далеких и не слышавших господина ван дер Гроота, своего поверенного. Щеки обвисли, набрякли кровяными прожилками, рот исказился гневом. – Все! Приехал! Контракт? К бесу ваш контракт! Подавитесь!
Он резко встал. Упав, громыхнула лавка. Часы, по-прежнему зажатые в кулаке, ускорили движение; вдвое, втрое быстрее закачалась серьга в ухе. Огромный человек грозил призракам, и маятник спешил, задыхаясь, вперед и вперед, к концу дороги.
Деньги сыпались из прорехи в кошеле: тик-так.
– Я уже ваш! Я давно ваш! Думаете, не знаю? Знаю! Все знаю! Мое время в дороге бежит сломя голову! Я ваш! Целиком! С потрохами! Менялы сдохнут от зависти: такой курс им не снился… Год пути за два! День за неделю! Ночь за месяц! Проклятье… страсти Господни!.. как заработок у пьянчужки, бежит оно, как жалованье транжиры! Как вода меж пальцев… Пять лет дороги!.. Вы гоните меня вон, вы ласково убиваете меня, выталкивая прочь… Черт бы вас побрал, убийцы… Я трачу, трачу, трачу, я скоро буду нищий везде, кроме вашего треклятого Гульденберга, но вы отправляете меня наперегонки с Безносой, снова и снова! Я – богач, моих денег хватит на долгую безбедную жизнь детям и внукам, но контракт! Нарушь я договор, откажись ехать по вашим поручениям, и что? Я разорен! Неустойка, возмещение убытков… Моя жена падет в ноги гнусному карлику-папаше: вымаливать лишнюю минутку! Моя дочь ляжет под жирного, похотливого борова, лишь бы он, уходя, оставил ей на столике у кровати полторы недели! Мой сын… Даже покинуть ваше кубло они не смогут: сутки пути, и солнце больше не застанет их на земле! И вы, лицемеры, смеетесь: «Поезжай, Освальд! Пока не отыщешь себе замены…» Нет! Выкусите! Я не умру в пути! Я родился в Лейдене, где деньги – деньги, а время – время! Моей казны, отпущенной не вами – Господом! – при рождении, хватит, чтобы доставить замену в ваши лапы, и потом… ни ногой!.. ни шагу!.. Жить! Жить хочу! Сами себя тратьте, сволочи…
Левой ладонью он с размаху запечатал рот. Захрипел, давясь несказанным. В три шага оказался рядом с Петером; ухватив за лацканы куртки обеими руками, вознес щуплого лютниста к своим бешеным глазам.
– Молчи! Убью!
– Д-д-д… – сказать «да» не получалось. Не хватало воздуха. Зубы выстукивали «Кочевряку». А ведь убьет… убьет и не поморщится! Безумец…
– Скажешь этому – прикончу! Понял?
Петер хрипел, судорожно пытаясь кивнуть и боясь, что кивок сломает ему шею раньше, чем лапы сумасшедшего Освальда. У груди бродяги качался маятник «нюрнбергского яйца»; у его лица качался маятник серьги.
Храбрый месяц бодал окно, спеша на помощь.
«Так! так!..» – кричали звезды, рукоплеща вожаку, и наконец последний удар прорвал плотину.
Позже Сьлядек не сумеет вспомнить миг изменения. Просто узник, укрытый за искаженными чертами Освальда, вырвался на свободу, напоследок опьянев от хмеля воли, – и Петер почувствовал, что больше не боится. Бояться этого несчастного, насмерть перепуганного горемыку было невозможно. Пожалеть – да. Но страх ушел и не вернулся, даже когда господин ван дер Гроот стал меняться. Богатая одежда осыпалась с дородного тела, катились кольца с пальцев, распадались башмаки, оплывал кафтан – монеты, монеты, монеты звонкой гурьбой бежали по полу, каплями впитываясь в доски, исчезая навсегда. Нет! – снегами, дорогами, перелесками, путями нехожеными возвращаясь в вольный город Гульденберг, где наследники ждали своей доли имущества. Кожа лица натянулась пергаментом, перо-невидимка вспахало лоб беглыми морщинами. Глубже, больше, отчетливей. Выгребными ямами запали глаза, теряя цвет. На запястьях вздулись синие вены, ключицы заострились, плечи поникли, не в силах больше выдерживать тяжесть Петера. Рухнув на лавку, Сьлядек смотрел, как перед ним, третьим маятником, качается глубокий старик – нагой, словно младенец в момент рождения.
Останавливалась серьга. Остановились часы в костлявом кулаке.
Рассыпались в драгоценный прах.
– Это страшно? – успел спросить последний маятник, еще качаясь.
– Нет, – ответил Петер, не понимая вопроса, вообще ничего не понимая, но зная, что отвечает верно.
Старик улыбнулся, прежде чем упасть.
Старик теперь знал, что это не страшно. Страшно ждать. Страшно бояться. А когда дождался, то уже не страшно. Казну с собой не прихватишь, кому она там нужна, твоя казна, твои сбережения – хватай воздух, падая в колодец, будешь им дышать, нахватанным…
– Освальд! Стой! Куда ты?.. Зачем?!
От порога Юрген кинулся к умирающему. Забыв обо всем, пал волком на добычу, вцепился в холодеющее тело:
– Стой! Погоди! Как туда добраться?!
Улыбка, схваченная судорогой, была ответом.
– Дорогу! Укажи дорогу!..
Нет. Освальд ван дер Гроот теперь знал лишь одну дорогу. По ней и ушел.
Маленький человек выпрямился. Огонь безумия пылал в глазах Юргена Маахлиба, и не было невозможного для этого огня, потому что узник вкусил свободы.
– Найду, – тихо сказал маленький человек. – Будьте вы прокляты! Сам найду…
Взгляд Юргена упал на трясущегося лютниста:
– «Кочевряку» давай! Отходную!
Горло булькнуло, лютня всхлипнула:
Кочевряка, кочевряй!
Путь подошвой ковыряй! —
Хоть во сне,
Хоть в весне,
Хоть в метели января!..
Дико расхохотавшись, пьяница кинулся прочь из «Звезды волхвов».
Петер лишь самую малость отстал от него.
Две тени бежали под синим месяцем, расходясь все дальше друг от друга.
* * *
Через двенадцать лет автор «Баллады опыта», начинавшейся с подозрительных строк:
Гроза за горизонтом – немая.
В молчании небесных страстей
Не опытом, – умом понимаю:
Как больно умирать на кресте… —
усталый и опустошенный Петер Сьлядек сбежит из чопорного Аморбаха, притона ханжей, от преследований святого трибунала. Страшный призрак «Каролины», уголовно-судебного кодекса, на днях принятого рейхстагом, будет гнаться за лютнистом и отстанет лишь на границе Хенингского герцогства, терпимого к вольностям. Впрочем, глупое эхо еще долго кричало вдогонку беглецу, что сделка с дьяволом суть преступление исключительное, а значит, в таком деле для обвинения достаточно слухов, проистекающих даже от детей или душевнобольных. Не оглядываясь, Петер двинется дальше. Вскоре на площади Трех Гульденов, как раз напротив церкви Фомы-и-Андрея, начнет собираться толпа народа, желая послушать опального певца. Еще через полгода, отдышавшись, он покинет Хенинг, направляясь в Эйсфельдскую марку, а дальше – время покажет. Кому время – деньги, а кому и поводырь. На Хенингской окружной он свернет в «Звезду волхвов».