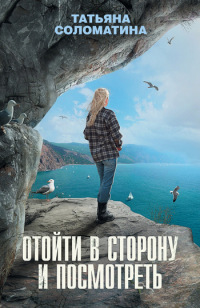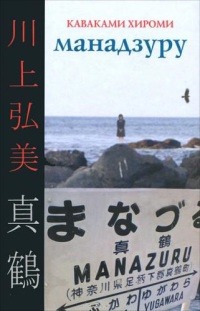Книга Половецкие пляски - Дарья Симонова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Рассказывая, мать стерла свою горестную маску, лицо расправилось в невольном ироничном любопытстве к своим собственным историям; так могла бы длиннющая древняя змея встретиться взглядом со своим давно не виданным хвостом, удивившись тому, что, несмотря на смену кож, он ничуть не изменился.
Все сестры подражают друг другу, это хоть к гадалке не ходи. Объяснили бы это матушке в отрочестве, она бы так не краснела за себя. После сестренкиной смерти пришлось уголочек души отвести под Анины выкидоны, со злым гением так просто не расстанешься. Впрочем, ее зрелость с лихвой переплюнула Анину юность, и мать с лукавым стыдом признавала это:
— Но куда ж я это дену, кровь-то как-никак в нас одна…
— Никуда ничего девать не надо, впрочем, это и невозможно. И нет ничего глупей стыда за собственную жизнь, — патетично заключил Глеб. Но мать уже не ответила ему. Она чуть не падала от резко навалившегося на нее сна.
Потом тянулись часы в поезде, озябший пейзаж за окнами, стираемый сумерками. Выехали втроем — Глеб, Элька и бледная мать. Дом как будто их и не ждал. Многолетняя бабкина соседка, «черная Зина», как ее звали, тяжело топала по дому в войлочных сапожках, подкидывая дров в «голландку». Угостила чаем и все время молчала, причмокивая своими кривыми губами. Мать с Элькой рванула в больницу, Глеб за ними, хотя ему совсем не нравилось это слякотное унылое мероприятие. Они опоздали. Бабушка умерла с иконкой Симеона и Анны под подушкой.
Ее диагноз звучал не убедительней, чем смерть от старости. Приехавший на следующее утро отец ронял пепел на мокрое крыльцо и удивлялся только одному: дом бабка уже давно завещала Филиппу. Эта новость пока что больше никого не трогала. Глеб размышлял о том, что вот и «бедному идальго» наконец перепало. Элька шипела: «И слава богу, здесь стены пропитаны безумием». Мать сипло плакала, глядя, как капает снег с засохших рябиновых ягод. Тихого Филиппа Глеб даже не замечал.
На Элькину свадьбу Глеб привел осторожничавшую Лару. Пьяная Эля объясняла ей, как по положению звезд в день зачатия понять, мальчик родится или девочка. Лара вежливо улыбалась, но про себя явно решила делать как придется. Раскрасневшаяся мать рылась в шкатулке в поисках бус, которые идеально должны были подойти к Ларочкиному платью. Те самые, в которых Аня застыла на знакомой фотографии.
Толику
Получивший в наказание наследство, вспотевший и тяжелый, Дейнека с опаской ждал любых вестей. После вторжения мадам Луизы, что прокричалась, охрипла, напилась воды из-под крана и вышла вон, Дейнека перестал верить в родительское целомудрие. После всего случившегося Луиза скатывалась до пошлых сюжетов, уверяя саму себя в том, что Дейнека выиграл ее дочь в карты. Слава терпеливо ждал, пока мадам выпустит пар, виноватое молчание останавливает истерику. Дома она придет в себя, вспомнит, что Слава картежный «всегда дурак» и может раздражать только тем, что упрекнуть его не в чем. За ним один грех: полный штиль по отношению к Луизе. Дейнека никогда даже не притворялся, что слушает ее. Порой он знал, что заплатит за это. Чаще — плевать хотел. Сейчас он был не прочь огреть ее сковородкой по юркой голове или приказать «Сим-сим, закройся!», смотря в ее выцветшие визгливые глаза. Округляя запутанные подробности, можно было сказать, что Луиза — хорошая мать. Рыть глубже теперь бессмысленно. Через четвертые руки, обходными путями Слава переправит ей долю шального наследства, а дальше уже — ее спектакль. Она хорошая мать, у нее остался сын. У Славы тоже сын, но Слава плохой отец. И то и другое — ничего не значащие силлогизмы.
Дейнека продолжал сосать влажную тугую сигарету, побывавшую в мокрой пепельнице. Дейнека был рослым, неповоротливым и некрасивым, к тому же, как и все люди, напоминающие крупные породы обезьян, казался хамоватым. Мадам Луиза — как он называл ее про себя — всегда сомневалась в «большом друге» своей дочери. Но — щадила Инну, как будто та была куклой с пластмассовыми ушами и не могла слышать постоянного ворчания о мокрых ботинках и резонирующем пении в ванной. Дейнека, безусловно, этим грешил.
Жена ушла от него, но недалеко. Вышла замуж за бывшего одноклассника. Некто Р. подшустрил, супруга с сыном переместились в дом напротив. Видеться с отпрыском Дейнеке отчего-то пытались запретить, что было абсурдом — он мог ежедневно наблюдать из своего окна, как ребенок бесконечно ковырялся в песочнице. То ли от обиды, то ли от скуки, то ли от одуряющей загадки — за что ему так нудно мстят — Дейнека запел. Таланты его толстого и едкого на язык папы прор¡зались в самую лихую минуту, и знакомцы уверяли, что так бывает, и слава богу, что так, ведь не запой же и не язва. Слава Дейнека не противился.
Он сподобился даже по-ломоносовски поступить в консерваторию, дабы не зарывать потомственный дар в землю; долго-долго и комично ходил в пыльные классы. Поначалу он вдохновлялся сменой декораций, но, как вечно скатывающийся в минор меланхолик, Дейнека быстро скис. Никто не шептался за его спиной, но он все равно держал в кармане нож, вечно защищаясь от воображаемого. Большому Дейнеке казалось, что «маленькие» насмехаются над ним, самым старшим, упитанным и молчаливым. У него нет друзей, он сумасшедший инженер, сквозь его жесткий одеколон пробивается потный душок одинокого диванчика и сарделек. Он сам себе выдумал такого себя и так к этому привык, что на всякий случай ни на чье весеннее кокетство не отвечал.
Слава Дейнека никогда не подавал больших надежд. И никому. Огромный дом, где мать, сестра и он гнездились в двух куцих комнатах с четырехметровыми потолками, раздражал Дейнеку. Не маленькими жилыми ячейками — ребенком Слава не замечал примет бедности, — а чопорностью и монотонностью жизни во все времена года. Обычный многоклеточный дом в обычном центре города, щербатый паркет, первый, второй и так далее снег в старушечьем дворике, жители первого подъезда до самой смерти не знают жильцов из соседних подъездов, и наоборот. Но Дейнека знал. Это был его друг детства Данила, теперь уже друг навеки, ибо вовремя подался на север и Слава вряд ли уже увидит его на своем пути. А если и повстречает, то не окликнет, ибо уже не пролезет в тесные воротца старой дружбы. Данилу обычно любили те, кто Дейнеку терпеть не мог: бабка — вечная дежурная по дворовой скамейке, зимой и летом одним цветом, улыбчивому и резвому Даниле всегда насыпала целую горсть арахиса, а Дейнеку она подразумевала богатеньким сынком и ничем его не одаривала. Слава-маленький тайком рыдал, Слава-подросток запустил как-то бабке в голову крепчайшим снежком. Через неделю обидчица отошла к праотцам, и Дейнека всерьез уверовал, что старуху хватил удар именно от злосчастного снежка и «я, Вячеслав Яковлевич Дейнека, убийца…». От страха он никому не признался в случившемся, но и до раскаяния дело не дошло. Более того — иезуитская гордость пронзала его порой при воспоминании о содеянном, становилось сладко и стыдно. Хотя в дебрях души и жила мирная уверенность в том, что его шальная выходка тут ни при чем, но ему была приятна обманчивая причастность к обыденному и великому Провидению.
Отца он видел редко, они с матерью не уживались, и даже в гастрольные перерывы отец больше времени проводил у своей многочисленной родни. Тут Дейнека отказывался что-либо понимать, но знал, что и понимать не нужно, ибо отец, толстый, нервный и веселый человек, радовал его всякими безумными конструкторами, пистолетами и стильными брелками-ножичками и никогда не заикался о музыкальном образовании сына. Слава был ему очень благодарен за это и за маленькие хулиганства, что они учиняли вместе. Однажды в разгильдяйское воскресенье, когда мама с сестрой отбыли по визитам и на вечерний спектакль, Дейнека с отцом затеяли обучающую игру в «очко» на мамины побрякушки. В азарте они, конечно, порвали любимые матушкины бусы, жемчужные слезки покатились в поддиванную пыль в жажде схорониться и выдать обескураженных картежников. Отец твердил: собирай живее, их было семьдесят две… А Слава в ужасе таращил глаза и предлагал смухлевать, не веря в то, что они одолеют это гигантское число. Время потихоньку ползло к одиннадцати, у Дейнеки уже слезились глаза, но папаша был неумолим. Пухлый, неуклюжий, он с уморительным проворством медвежонка выковыривал бусинки из паркетных щелей и победно шептал: шестьдесят пятая, шестьдесят шестая… Дверь легко и незаметно отворилась, вошла оживленная, окутанная невыветренным терпким парфюмом мама и с изумлением уставилась на ползающего мужа. Слава молчал, как партизан, а отец сразу бросился ей навстречу, заранее размахивая флагом перемирия: «Мамочка, мы тут попортили твою бижутерию… но чуть-чуть… осталось найти три бусинки, всего три! А вы с Аней идите пока в ту комнату, я вам там тортик принес…» Вид у отца был такой растерянный и умильный, какой внезапно обретают только толстые мужчины и который роднит их с наказанными детьми… Мать смотрела, смотрела и вдруг расхохоталась, взяла в ладони щекастую отцовскую физиономию и чмокнула в глаза. Сентиментальный Дейнека подумал, что отец сейчас расплачется, но тот лукаво ему подмигнул, встрепенулся и, уловив благосклонность матери, моментально превратился в обычного себя — ироничного деспота и зазнайку.