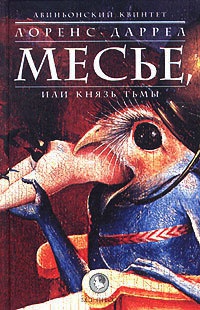Книга Горькие лимоны - Лоуренс Даррелл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Затем на короткое время какой-нибудь орден, вроде ордена тамплиеров, озарялся светом послания: их отступничество от христианства — один из самых завораживающих эпизодов истории; благодаря какому стечению обстоятельств оно произошло именно здесь, на Кипре, какие новые для себя чувства эти железные люди испытали среди здешних покинутых храмов и полуразрушенных святилищ? Единственное, что нам известно, так это обвинения, выдвинутые против них: они якобы приняли восточные ритуалы и верования… И тут мне приходит на память интересный, наводящий на серьезные размышления, пассаж из книги миссис Льюис: "Пафос до сих пор иногда именуют Баффо; в древние времена здесь почитали камень, который некоторые римские историки называют meta, или мельничным жерновом, из-за из его формы… Тамплиеров же обвиняли в том, что они поклоняются идолу, конкретной формы которого мы не знаем, но которого они сами якобы называли Баффометом; и какие только надуманные аргументы не приводились в попытках хоть как-то объяснить это имя… А вдруг оно означает всего-навсего "Пафосский камень"?" А что если это и есть черный омфалос, тот, что был найден именно в этих местах, а теперь лежит и собирает пыль в Никосийском музее, — ненавязчивый свидетель истины, сила которой иссякла и не способна более тронуть нашу душу?
Все эти мысли, столь подходящие ко времени и к месту, не могли, однако, долго противостоять натиску суетной повседневности: я обещал себе исследовать местные кофейни, пока Панос будет занят на той отдаленной ферме, где он надеялся подобрать для меня подходящую лозу. Я зашел в три кофейни, одну за другой, и в каждой кофе мне подавали молча и с прохладцей, что у греков означает нарочитое неуважение. Афинское радио, словно попугай, изрыгало заезженные проклятия, посылая их на нашу голову. Со всех сторон на меня смотрели враждебные темные глаза, презрительный огонек в которых сменялся мимолетной теплой искрой только в тот миг, когда я что-нибудь произносил по-гречески. В третьем по счету кафе я представился немцем, изучающим археологию, и повисшая было в воздухе напряженность тут же растаяла.
— Гитлер, — с понимающим видом сказал официант, так, словно знал его как облупленного. — И как у вас там теперь дела?
— Неплохо, — ответил я. — А здесь у вас?
Взгляд у него тут же сделался уклончивым и хитрым, а на губах заиграла кривая усмешка.
— Плохо, — сказал он и замолчал, и тут же в самой глубине кафе кто-то резко выключил радиоприемник. В тишине, словно летучие мыши, остались парить наши невысказанные вопросы и ответы. Впрочем, невежливость, скрытность, казалось, были свойственны не только людям — они были словно растворены в самом воздухе. Молчаливые группы молодых людей с пронзительными темными глазами и нечесаными волосами были всегда поблизости и всегда наготове — воодушевление, придавленное чувством отчаяния.
Я подождал Паноса в гостинице, и мы отправились в сторону дома, предварительно со всеми возможными предосторожностями уложив на заднем сиденье завернутые в газетную бумагу черенки виноградной лозы. Вид у моего друга был озабоченный, он курил и оглядывал расстилавшиеся по обе стороны от дороги, тающие под ярким послеполуденным солнцем виноградники.
— Что случилось? — спросил я наконец, и он положил мне руку на локоть.
— Они городят такую чушь — даже откровенную неправду, — первое, что приходит им в голову.
— Это очень похоже на греков, — сказал я.
— Но не очень — на киприотов, друг мой.
Он снова вздохнул и выбросил в окно окурок.
— Я верю в традиционный британский здравый смысл, — сказал он. — Прежде он никогда вас не подводил. Британцы, конечно, долго запрягают, отчаянно долго; но уж теперь-то им пора было понять, что даже те из нас, кто не хочет Эносиса, хотят иметь право голосовать за или против него. Как ты считаешь?
Мы ехали на восток по длинной, петляющей по высокому и крутому горному склону дороге, то и дело пересекающей очередное винодельческое хозяйство: вдоль дороги были явственно видны последствия недавнего большого землетрясения, которое милостиво обошло стороной Киренский кряж — хотя по Беллапаис оно пронеслось с грохотом и ревом, как почтовый экспресс, потревожив даже аббатство. Панос захватил с собой немного струмби, темного и кисловатого местного вина: он откупорил бутылку и принялся из нее отхлебывать.
— Понимаешь, — продолжал он, — даже я, человек, который так долго верой и правдой служил правительству — и правительство, кстати, тоже меня не обижало, — даже я, человек, который не хочет, чтобы британцы отсюда уходили, чувствую, что должен иметь право выбирать собственное будущее; и, должен тебе признаться, мне обидно видеть, как с нами обращаются. Это просто нечестно, друг мой. За всем этим я вижу то традиционное презрение, которое вы — не ты, конечно — к нам испытываете, и которое так злит киприотов. Если ваши власти и дальше станут вести дела таким же образом, вы просто вынудите наших молодых людей — а ты ведь знаешь, какие они своевольные — к таким действиям, о которых все потом будут сожалеть, и в первую очередь сами киприоты.
Однако то, чего я тайно опасался, ему даже не приходило в голову — поскольку он, как и мои товарищи-сатрапы, подходил к нынешним событиям со старой меркой, считая, что эти отдельные выступления вскоре будут подавлены, как был подавлен бунт 1931 года; конечно, это вопиющая несправедливость, но она неизбежна — вот, что его особенно расстраивало. Так же, как многие другие киприоты, он совершенно не принимал в расчет афинского фактора — может быть, просто в силу того, что сама его система взглядов была по сути патриархальной, сформированной тем замкнутым мирком, в котором он жил.
— Больше всего меня сбивают с толку английские газеты, — продолжал он, — поскольку по ним ясно видно, что правительство ничего не понимает в нашей проблеме, да же самых элементарных вещей. Там постоянно рассуждают о кучке фанатиков, которых подстрекают алчные попы; но если бы Макариос и в самом деле преследовал только собственные корыстные цели, насколько выгоднее для него было бы сидеть тихо, оставаясь главой местной автокефальной церкви, разве не так? Если Эносис и в самом деле случится, Макариос станет никем, вроде архиепископа Критского. Нет, что бы вы про нас ни думали, вы же не можете не понимать, что Эносис просто приведет нас к финансовому разорению? А вам тем не менее кажется, что мы пытаемся что-то на этом выгадать?
Он продолжал жалобным, надтреснутым голосом задавать мне вопросы, которые в те дни, должно быть, задавали себе многие киприоты, не злясь и не обижаясь, а лишь сожалея о том, что очевидные факты рождают столько взаимного непонимания. Как бы всё растолковать, объяснить?
В конце концов, разве одним из символов веры Содружества не было самоопределение? И если Индии и Судану дозволено его требовать, то почему в этом отказывают грекам Кипра?
— Вот о чем я спрашиваю сам себя, — печально проговорил Панос. — И если сейчас это несвоевременно, мы готовы ждать — ждать не год и не два, если потребуется, — и нам довольно будет только обещания, что в один прекрасный день мы сможем голосовать.
И добавил с улыбкой: