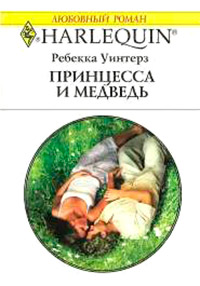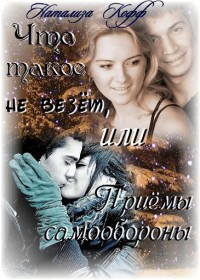Книга Граница. Таежный роман. Солдаты - Алексей Зернов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но тот молчал. Достал еще одну папиросу, прикурил и, пуская сизый, вонючий дым, по-прежнему с рысьим прищуром смотрел на капитана.
Голощекин заколебался: что-то было не так, и, судя по всему, Папа ждет каких-то объяснений. Ладно, прикинемся слегка виноватым — такой вариант Никита тоже предусмотрел.
— Ты тут спрашивал, зачем китайцы рыбу без начинки сюда носили… — начал он медленно, словно сомневаясь: говорить — не говорить. — Короче, вертится тут паренек один… Вопросов пока не задает, но вижу — взял на заметку.
— Почему сразу не сказал? — вскинулся Папа.
— А зачем зря шухер поднимать? Ну вертится. Я ему наглядно продемонстрировал, что в фанзе ничего интересного нет. При всех продемонстрировал. Парень самолюбивый, лишний раз дураком выглядеть на захочет, так что вряд ли теперь побежит рапорт подавать.
— Что значит — вряд ли? То есть вряд ли, но все-таки может? — У Папы нервно дернулась щека.
— Может, — невозмутимо ответил Голощекин.
— Ах ты сукин сын! — Папа привстал, сжав кулаки. — Да ты понимаешь, что говоришь?! Значит, засветил фанзу?!
— Чего орешь? — спокойно спросил Никита. — Я сказал «может». Но я ж, наверное, для того тебе и нужен, чтоб ты спал спокойно. Я хоть раз провалил дело? Хоть одну посылку тебе не доставил?
— Кабы провалил, не со мной бы здесь сейчас языком трепал, — желчно заметил Папа. — Ладно. Что думаешь делать?
Голощекин присел на один из ящиков, тоже вытащил папиросы и закурил. Теперь, когда он кое в чем признался, следовало дать понять, что именно от него зависит, как события буду разворачиваться дальше. Так что они с Папой могут опять разговаривать на равных.
— С парнем я потолковал и еще потолкую. Он упрямый, как ишак, но, говорю же, дураком выглядеть не захочет, самолюбие не позволит. На этом и сыграем.
— Психолог хренов, — сказал Папа, сделав ударение на последнее «о».
— А ты думал, — усмехнулся Никита. — И к тому же он в первую голову ко мне должен обратиться. Так что у меня все под контролем. Я б вообще тебе говорить об этом не стал, а то ты последнее время пуганый какой-то, но ты же небось не только от меня новости узнаёшь… — Голощекин сделал паузу, но Папа ничего не сказал. Ну еще бы, не хочет сдавать своих стукачей. — Ведь не только от меня новости узнаёшь? — повторил он, добавив голосу несколько недоверчивую интонацию.
— Из передачи «Время» узнаю, — проворчал Папа, — как и весь советский народ. — Он снова сел и достал еще одну папиросу.
— Ты чего смолишь-то столько? — спросил Голощекин. — Так и свалиться недолго. Поберег бы здоровьишко.
— О своем побеспокойся, — огрызнулся Папа. — Людей мне присмотрел?
— Думаю.
— Некогда думать. У вас там что, все отличники боевой и строевой подготовки? Ангелы с крыльями? Зацепить некого?
Голощекин разозлился. Он действительно пока не мог назвать ни одной конкретной фамилии. В части были так называемые «второгодники» — пьющие, на все махнувшие рукой офицеры, но с ними связываться — себе дороже. Был завгар Шубин, немолодой мужик с вороватыми глазами, подторговывал самопальной водкой, скупая ее у местных. Но торговать вонючим пойлом — это одно, тут много ума не надо, а вот заниматься делом рискованным, требующим ежедневного напряжения мозгов, умения мгновенно сориентироваться в непредвиденной ситуации, — это совсем другое. «Деды» из столбовского взвода? Они капитану обязаны, что называется, по гроб жизни: только благодаря ему история с Васютиным не получила для них никакого продолжения. Но кто из «дедов»? Степочкин слишком простодушен, Умаров и Суютдинов, как люди восточные, чересчур своенравны: чуть что не по ним, глаза — в щелку, ноздри — в стороны. Нет, ненадежно, не знаешь, когда взбрыкнут. Рыжеев — дурак, Жигулин — ни рыба ни мясо… Да и дембель у них скоро, а пока обработаешь, пока натаскаешь…
Логичнее всего было бы перетянуть на свою сторону Братеева. Начать с того, что сержант, сам того не зная, влип в историю по самые свои торчащие лопухами уши. И башка у него варит, и в наблюдательности ему не откажешь. И упрямство его, если направить в нужную сторону, тоже не будет лишним. В другом закавыка. Чем зацепить по-крестьянски расчетливого парня, который, поди, на пятьдесят лет вперед всю свою жизнь представил? Парня, убежденного в том, что любовь со временем становится только крепче? Как объяснить ему, что думать о себе, любимом, о благе своем куда интереснее, чем беспокоиться о благе государства, которое на такого вот Братеева чхать хотело с высокой колокольни? Как привить ему азарт и страсть к риску?
— Чем зацепить? — спросил Голощекин. — Чтобы зацепить, зацепка нужна.
— Ты в слова-то со мной не играй, — неодобрительно сказал Папа. — Балагур. Не может того быть, чтобы у вас одни святые на плацу сапогами топали. Подбери пару-тройку человек, проверь на вшивость. Только осторожно. Ты меня понял?
— Чего ж тут не понять? Не бином Ньютона, — сказал Голощекин, не скрывая раздражения. Он не любил, когда его учили.
Папа это заметил, усмехнулся:
— А ты недовольную рожу-то не корчи. От того, насколько хорошо ты меня понял, очень многое зависит.
— Хочешь дело расширять? — спросил Голощекин.
— Допустим.
— А говорил — пасут тебя, пересидеть, мол, хочешь.
— Обмозговать надо было, — уклончиво ответил Папа.
— Обмозговал?
Папа кивнул:
— Я нашел еще два канала — надежные люди, большие связи. И есть чем этих людей держать. А ты скоро отсюда свалишь. Мне что, все по новой начинать?
Голощекин лихорадочно соображал. Он действительно не собирался сидеть здесь долго, осень — крайний срок. У него было несколько вариантов отхода — и все требовали дополнительной проработки. Он постоянно об этом думал, но, чем больше думал, тем больше склонялся к мысли, что — рано. Над ним пока не каплет, а дополнительные Папины каналы означают, что провернуть можно еще не одно дело.
Одно ясно: он Папе нужен, Папа боится его потерять. Ну еще бы: привык иметь дело со шпаной вроде Бурого и Карлика, а шпана ненадежна: и милиция за ними присматривает, и сами они, если что, сдадут не задумываясь. А кто заподозрит капитана Голощекина, образцового советского офицера? То-то.
— Я пока никуда не собираюсь, — сказал Голощекин. — А если доверять перестал — так и скажи.
Папа не ответил. Он встал и, пройдясь по фанзе, остановился возле окна. Посмотрел на пологий склон, затем повернулся. Лицо его было жестким.
— И все-таки ты меня не понял. Я не одолжение прошу мне сделать, я тебе четко сказал: найди мне человека. Ты, капитан, у себя в армии приказы не обсуждаешь? Ну а у меня своя армия. И мои приказы тоже нечего обсуждать. В этой армии я — маршал, ясно?
Он захлопнул рот, точно капкан, и две жесткие складки залегли вокруг тонких губ. И Голощекин, пожалуй, впервые подумал, какой властью, должно быть, обладает вот этот невысокий, лысоватый человек с рысьими глазами, работающий начальником небольшой автобазы в маленьком городишке, где каждый как на ладони. Какую силу воли надо иметь, чтобы при такой власти ездить на дребезжащей от старости «Победе», жить в крохотной квартирке и вкалывать с утра до ночи на работе ради двадцати рублей премиальных. Какая жажда жизни — не этой, убогой, а той, ради которой все и затевалось.