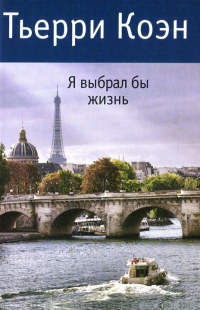Книга Полубрат - Ларс Соби Кристенсен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я заглянул в гостиную. Болетта спала на диване, шторы задёрнуты. При каждом вздохе с её губ срывался тонкий звук. Чёрные перчатки валялись на полу. Будить её мне не хотелось. Я подкрался на цыпочках, поднял вуаль и чмокнул её в лоб. И не успел уйти, как появилась мама. — Ты молодец, Барнум, — сказала она. На маме синий передник, он туго затянут на талии и подчёркивает её стройность. В руках она держала серую тряпку с кислым запахом, ошмётками жаркого и другой еды. Неожиданно меня затошнило. Я вспомнил, как однажды в воскресенье отец высказался по поводу бифштекса, он был пережарен или наоборот, и тогда она швырнула на сковороду такую тряпку, поджарила и подала ему с соусом и прочим. Самое ужасное, что отец её съел, уж не знаю, как он на это сподобился, но он ножом и вилкой нашинковал её на мелкие кусочки и заглотил их, больше тряпку никто не видел. — Наша мама как Рёст, — любил повторять отец, — никогда не угадаешь, какая погода тебя завтра ждёт. — Она спит, — тихо сказал я. Мама устало улыбнулась. — Теперь она не проснётся, пока с неё не сойдёт. — Так это было устроено. То, что накатывало на Болетту, должно было потом ещё сойти с неё. Хотел бы я знать, что это такое на неё накатывает. — На днях открывается школа танцев, — сказала мама внезапно. — Нет, спасибо. — Что значит «спасибо»? Пойдёшь без разговоров. Ты потом сам спасибо скажешь! — Она бросила тряпку на пол, обхватила меня и протанцевала со мной, одетым в пижаму, круг по комнате, мимо дивана, до камина, чуть не опрокинула лампу и засмеялась, она пахла духами и стиркой, я чувствовал сквозь передник её худобу и пытался высвободиться, но тогда мама пристально заглянула мне в лицо, и мысли её приняли другой оборот. — Что ты с собой сделал? — спросила она. — Ничего не сделал. — Ты весь опух и красный. — Мне в школу пора, — прошептал я. — С таким лицом? — Она провела пальцем мне по щеке. — Надеюсь, это не свинка? Свинка у тебя была. Что ж такое… Дай-ка посмотрю, нет ли сыпи. — Я вырвался: — Я здоров. Просто помыл лицо. — Мама засмеялась: — Это видно. Довольно основательно. Хлоркой, нет? — Нет, зелёным мылом и йодом с пемзой. Чтоб мандой не воняло. — Мама выпустила мою пижаму, подбородок у неё дрожал, словно её ударило и тряхнуло. — Барнум, повтори, что ты сказал?
И в этот момент вернулся отец. Я увидел его позади матери, он закрыл локтем дверь и, в убеждении, что утром в октябре в пятницу дома никого и никто за ним не следит, поставил на пол блестящий чемодан, повесил шляпу на крючок между бра, сунул зонтик в зонтечницу, выпутался из плаща, со вздохом сбросил ботинки, отстегнул подвязки на носках, всё это единым движением, почесал белую ногу и, наконец, притулился к стене, а я видел поникшую шею, спину колесом, натянувшийся, едва не лопавшийся на ней пиджак, платок в нагрудном кармане с вензелем «АН», горошины пота на лбу, руку, она берёт платок, не безупречно чистый, и проводит им по широкому лбу, но пот въелся, как плесень, отец трёт, оттирает, сердится, злится, хлопает себя кулаком по лбу, точно это может помочь, и тогда мама тоже поворачивается в его сторону, но она пропустила всё, чему я стал свидетелем: отцово возвращение домой, и я кашляю, отец пружинисто вскидывается, зажав платок в горсти, и сей же миг на лице включается улыбка, и он идёт к нам, расставив руки, словно сцена секунду назад, когда он стоял, привалясь к стене, и лупил себя кулаком по лбу, была обманом, обманом зрения. — Я думала, ты не приедешь раньше завтра, — говорит мама. — И я не думал. Взял и приехал! — Отец складывает платок и прячет, я не успеваю заметить куда, смеётся и целует маму в обе щеки. Отец опять потолстел. С каждой поездкой его разносит всё больше. Складки кожи натекали на воротничок как сливки на края слишком полной чашки. Ремнём он уже не пользовался, перешёл на подтяжки. Даже колени у него заплыли жиром. Вот-вот станет поперёк себя шире в прямом смысле слова. Наконец он отпустил маму, посмотрел на меня и прищурился: — Барнум, что у тебя с лицом? Фред учился ставить ударения? — Он снова захохотал как безумный. Мама вздрогнула. — Барнум простужен, — выпалила она. — Поэтому и в школу не пошёл.
Но отец уже заинтересовался Болеттой. Она свернулась калачиком на диване. То, что накатило, сойти ещё неуспело. — Вот оно что, — хмыкнул отец — Lit de parade. — Мама схватила его за руку: — Тише. Не говори так. — А что это значит? — спросил я. Отец в очередной раз промокнул лоб платком. — Lit de parade? Это французское выражение означает всего-навсего «похмелье». Нам не надо поставить ей на грудь стаканчик водки и проверить, жива ли старушка? — Мама грубо дёрнула его за пиджак, отчего тот собрался колбасками на спине, а средняя пуговица повисла на честном слове. — Почему ты вернулся раньше? — вспомнила она опять. Отец вдохнул. Поднял калечную руку. И попробовал было улыбнуться. — Мне уйти? — спросил он. Мама вздохнула: — Арнольд, я всего-навсего спросила. — Отец вдруг распсиховался. Терпение у него лопнуло. — Я должен отчитываться, почему вернулся домой днём раньше? — едва не кричал он. Мама попробовала призвать его к порядку, но поздно. — Потому что машина гикнулась! Она не вынесла путешествия в Италию! — Отец сел. — Она разбита? — осторожно поинтересовалась мама. — Она на свалке в Клёфте. Я выручил за неё аж две с половиной кроны! — Отец снова вскочил. — Одно можно сказать наверняка — эта проклятая поездка принесла нам убытки. У Флеминга Бранта нечем было разжиться. — Глаза у мамы сузились в щёлки. — Так вот зачем ты нас туда потащил. Проверить, нет ли у него мошны с деньгами? — Отец знал, что уже наговорил лишнего, но не мог остановиться. — Да, чёрт побери! Вдруг бы он оказался королём Белладжо. Кто ж знал, что он жалкий смотритель пляжа! — Стало совершенно тихо. Отец держал в руке свой платок, как белый мятый флаг. Он искал, чего бы такого быстро сказать. Он промокнул шею, а глубоко под испариной, под складками жира таилась его улыбка, про которую даже говорили, что я её унаследовал и что должен благодарить судьбу за это. И хотя откопать отцову улыбку становилось всё труднее и труднее, я видел, что она не утратила своей магии, от неё мы также замираем в предвкушении, мама делается терпеливее и мягче, а сам отец краше и неотразимее, как если бы улыбка высвобождала его из тела и поднимала над банальными неурядицами будней. И он вновь превращался в мальчишку, решившего продавать ветер. — А кто из вас догадается, о чём я подумал по дороге домой, сидя в одиночестве в убогом купе? — спросил отец. Догадаться возможности не было, ибо отцова мысль обыкновенно так долго блуждала вокруг да около, что редко добиралась до цели, а гораздо чаще сбивалась с пути, связавшись с дурной компанией. Он скрестил руки на груди. Они едва поместились там. Отец ждал. Он хотел слышать фанфары и барабанную дробь. — Пап, ну говори. О чём ты подумал? — Спокойно, Барнум. Не суетись. Всему своё время. — Он ещё немного постоял. Мама дала мне руку. Покуражившись, отец вышел в прихожую и вернулся с маленьким чемоданчиком. Он бережно положил его на обеденный стол, а мы встали слева и справа, чтобы лучше видеть.
Отец размял руки в перчатках. — Помимо вас, — а о вас я, да будет вам известно, думаю непрестанно, что естественно, — мысли мои вертелись вокруг Олимпиады! Я чувствовал в себе олимпийский задор, я думал об Олимпиаде в Токио и решил: надо поддерживать себя в форме! Я начинаю новую жизнь! И с этой целью я заехал на стадион Бишлет и произвёл выгодный обмен с тамошним завхозом. Он получил пластинку Енса Бук-Енсена с автографом. Мне же, любезные дамы и господа, досталось это чудо.